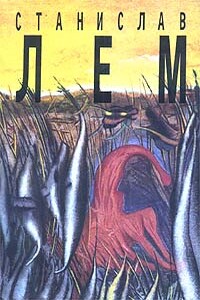Однако документ кончился, а Тынянов не начал. Но к австрийской интриге писатель подходит совсем близко, входит в дом, где она живет, знакомит с хозяйкой дома княгиней Трубецкой, с самим Трубецким и Фаддеем Венедиктовичем Булгариным. Булгарин и Трубецкой (особенно Булгарин) описаны подробно, а жена Трубецкого и дом — в эпизоде. Булгарин, Трубецкой, его жена и дом с австрийской интригой не связываются.
Фаддей Венедиктович много споспешествовал упрочению существеннейшей для нашей истории традиции, честь основания которой если и не принадлежит ему, то возведение ее в ранг высокой государственной значимости, несомненно, должно быть признано именно за ним. Эта традиция до сих пор не вызывала пристально научного интереса и не вошла в орбиту внимания историков и литературоведов, несмотря на то что на протяжении XIX и XX столетий она играла серьезную роль в политической жизни страны. Заботясь о пользе отечества и умножая традицию, Фаддей поспешил сообщить свое мнение касательно связей декабристов с заграницей.
Осенью 1826 года после прекращения деятельности Следственной комиссии ее функции были переданы III отделению. III отделение не считало даже после следствия, суда и приговора по делу о тайных обществах вопрос исчерпанным, и в частности не считало, что следствие до конца выяснило все обстоятельства, связанные с возможным влиянием иностранных держав на злоумышленников. В предназначенном только для императора неопубликованном приложении к донесению во всеобщее сведение (опубликовано только в 1875 году) было сказано: «…комиссия, по дошедшим до нее сведениям, могла бы иметь подозрения: на двор Стокгольмский… или на Австрию… или на Англию… Но по точнейшем исследовании оказалось, что нет основательных причин питать сии подозрения»[85]. Однако III отделение решило, что основательные причины питать сии подозрения есть, и обратилось по Этому поводу с запросом к Булгарину, успевшему создать себе репутацию авторитетного консультанта. Авторитетный консультант ответил со свойственной ему резвостью, живостью и готовностью.
Донос Булгарина любопытен и не похож на другие, кроме прочего, еще тем, что в нем нет и капли желания Зла ближнему своему. Доносчик ни о ком в отдельности плохо не отзывается и никого не выдает. Самое гнусное место в доносе выглядит даже по тем временам почти невинно: «…Рылеев и другие юноши врут много насчет правительства»[86]. Если принять во внимание, что это написано через несколько месяцев после того, как «Рылеев и другие юноши» были или повешены, или отправлены на каторгу и в ссылку, то, право же, не стоит судить Булгарина слишком строго. В традиции, им возведенной в ранг высокой государственной значимости, были случаи куда более выразительные. Плохо он отзывается не о каждом в отдельности, а о всех сразу и, конечно, вообще. «Вообще» — это «молодые люди», которые «сделались демагогами»[87]. Кроме того, Булгарин зачем-то все больше выгораживает себя и жалуется на обиды: «демагоги» обзывали его то «рабом», то «трусом»[88]. О себе Фаддей пишет так: «Для меня нарочно был дан вечер, чтобы познакомить с Гуммлауером (секретарь австрийского посольства. — А.Б.) и другими интересными людьми. Я обещал быть, но завязал голову и остался дома»[89]. Отвечая на вопрос: «Имеют ли иностранные державы влияние на политический образ мыслей в России?», Булгарин пишет: «Этим вопросом вы коснулись самой чувствительной струны моей, ибо в продолжение десяти лет это составляет мою idee fixe»[90]. Произведение Булгарина больше, чем на донос, похоже на публицистический очерк, перемешанный с очерком быта и нравов. Но это — Булгарин.
Получив вдохновенное булгаринское послание, III отделение страшно разволновалось и, не имея возможности допросить австрийского посланника и повешенного Рылеева, вызвало из каторжной работы в Чите государственного преступника Александра Осиповича Корниловича. Государственного преступника посадили в Петропавловскую крепость и об австрийской интриге стали спрашивать прямо и без обиняков. Корнилович отверг попытки обвинить его в шпионаже и выдаче государственной тайны, и ему поверили. Но Австрия снова на всякий случай была оставлена в подозрении. Нельзя сказать, что для этого совсем не было оснований. Во всяком случае, интерес к Австрии возник не случайно. В приложении к донесению, предназначенному для императора, по этому поводу сказано: «…князь Трубецкой в своих, весьма пространных показаниях говорит только, что ввечеру 14-го минувшего декабря свояк его, рассуждая о происшествиях сего дня, сказал: «Que diable, si l'on voulait faire une revolution, ce n’est pas comme cela qu’il fallait s’y prendre». (Кой черт, если хотели сделать революцию, то должно бы не так за это взяться.) Сии слова, без сомнения, не могут служить доказательством доброжелательства к России, но они доказывают, по крайней мере, что план заговора и мятежа не был известен графу Лебцельтерну»