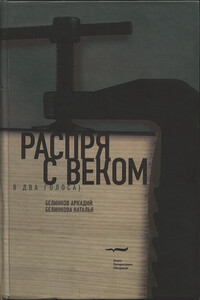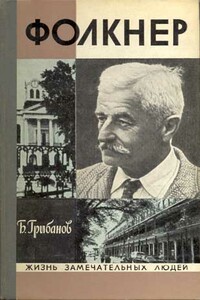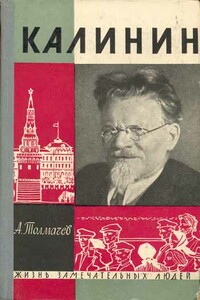В формуле этого государства должен был существовать человек, крикнувший «караул», и этот кто-то должен был нести ответственность за крик. До того, как появился «караул», в формуле было равновесие и твердая взаимозависимость всех элементов. Неожиданное действие («караул») это равновесие нарушило, и возникла необходимость в его восстановлении. Формула павловского государства неизвестных величин не терпит. Человек же лишь знак алгебраической формулы, вместо которого всегда может быть подставлено реальное значение. Икс в ситуации рассказа — это эмпирический, арифметический подпоручик.
Трагизм событий увеличивается оттого, что вместо реального человека беды обрушиваются на несуществующий мираж, потому что беда одного человека — это частное дело, а несуществующий мираж — это любой человек, на которого с таким же успехом могут обрушиться такие же беды. В качестве доказательства существует кобыла, отполированная живыми, существующими людьми, и совершенно ясно, что следом за несуществующим подпоручиком к ней непременно пристегнут существующего.
В формуле самовластия в любую минуту может быть произведена подстановка реального значения вместо абстрактного алгебраического символа, и смысл рассказа именно в этой алгебраической всеобщности.
Эта алгебраическая всеобщность, обобщенность и историческая типичность вводят рассказ в избранное число абсолютных произведений русской литературы. Всякая попытка раздробить рассказ любопытными подробностями эту алгебраичность разрушает. Именно это произошло при экранизации (сценарий Ю. Тынянова).
При экранизации произошло следующее: она вернула историю к частности и случайностям анекдота. Это случилось потому, что в рассказе бессмысленность человеческой жизни вовсе не кажется необычной и удивительной людям, жившим этой бессмысленной жизнью. В кино же обычность упразднена, и все удивляются. Вместо обычной, привычной и неудивительной жизни получается жизнь необычная, непривычная и удивительная. Люди смотрят друг на друга и прыскают. Все это произошло, потому что в фильме (конечно, из самых лучших побуждений) старательно усилена реальная мотивировка, обдуманно ослабленная в рассказе. У Тынянова нет человека, управляющего событиями и извлекающего из них для себя пользу, а У режиссера А. Файнциммера есть. Режиссер ввел человека, который посмеивается над эпохой и извлекает из нее выгоду. То, что у Тынянова сказано в половине фразы — о «прерывистых мыслях адъютанта», — у А. Файнциммера стало сознательным, заранее обдуманным действием фон Палена, подменившего мотивировку рассказа — нелепость самовластия — своими мотивировками. Фон Пален Файнциммера, развившийся из тыняновских адъютанта и Нелединского-Мелецкого, превращается в человека, который властно управляет судьбами империи. Новая мотивировка изменила не только ситуацию, но и жанр: трагический рассказ был превращен в комедию. Алгебраичность, всеобщность, типичность рассказа ушли, и вместо них на экране появились дурак-любовник, субретка и психопат-император, которые стали изображать дурацкое царствование и разложение.
Грандиозная противоестественность российского самовластия была подменена хитрым придворным фон Паленом. Вся история оказалась надуманным трюком и вернулась в сборник анекдотов издания 1901 года[156].
Значительно лучше, я бы даже сказал — несравненно лучше режиссера А. Файнциммера знает жизнь режиссер Ч. Чаплин. В связи с этим взаимоотношения беззащитного человека и государства господ изображены последним с исчерпывающей полнотой в кинофильме «Новые времена», где они, то есть взаимоотношения, представлены в образе человека, прокатываемого в колесах машины.
Рассказ Тынянова тоже был бы лишь надуманным трюком, если бы действие его происходило не в эпоху Павла, а в последующую эпоху. Находкой рассказа был не только сюжетный ход — превращение описки в человека, — а то, что этот ход писатель связал со временем, когда он мог более естественно реализоваться. Превращение анекдота в рассказ, превращение жанра всегда находится в прямой зависимости от исторических условий, и Тынянов выводит повествование за пределы анекдота уже тем, что относит события к эпохе Павла. Человек, переживший Отечественную войну, современник тайных декабристских обществ, несомненно, был сопротивляющимся героем. История, подобная той, которую рассказал Тынянов, в эпоху, когда появился сопротивляющийся герой, была бы немыслима. Она станет возможной снова после поражения восстания — в гоголевский период русской литературы. И поэтому тема «Киже», введенная в «Смерть Вазир-Мухтара» и в рассказ «Малолетный Витушишников», действие которых происходит в эпоху Николая, была убедительно мотивирована.