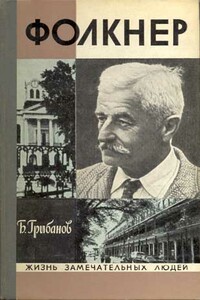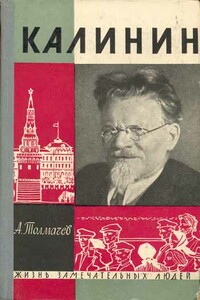В павловское царствование впервые с такой отчетливостью было понято, что людьми, затянутыми в форму различных ведомств, выстроенными по чинам, систематически наказываемыми и методически награждаемыми, командовать гораздо легче и проще, чем расползающимися во все стороны личностями, не желающими вскакивать по свистку, думать по распоряжению, безоговорочно подчиняться приказу и склонными вступать в пререкания.
«Царствование Павла доказывает одно: что и в просвещенные времена могут родиться Калигулы. Русские защитники Самовластия в том несогласны и принимают славную шутку г-жи де Сталь за основание нашей конституции: En Russie le gouvernement est un despotisme mitige par la strangulation» (Правление в России есть самовластие, ограниченное удавкою)[152].
Тынянов, несомненно, соглашался с пушкинским пониманием павловского царствования и в своей важнейшей теме — взаимоотношения государства и личности — часто обращался к павловской империи, потому что она была самым характерным и самым полным, самым типичным и самым трагическим периодом русской истории. Она была еще более трагична, чем подернутые пожаром и дымом кровавые годы Иоанна, потому что она была еще более бессмысленна. Она была так важна и так настораживающе многозначительна, потому что кровь, пытки и казни, растления и расстрелы, виселицы и высылки, дыба и дым сжигаемых книг всей дореволюционной истории обрели в ней источник, корень, опору и прецедент.
Тынянов написал рассказ о том, что человек для самодержавия не имеет значения, а имеет значение правильное движение механизма, именуемого государством. Для правильного движения механизма, именуемого государством, человек имеет значение только тогда, когда он удовлетворяет требованиям этого механизма, нуждающегося в деталях строго определенной формы и назначения. Поэтому идеальный человек для механизма, именуемого государством, — это такой человек, который может и не быть человеком, а только именоваться им. Именоваться же человеком может и пустое пространство между двумя солдатами, у одного из которых пакет с приказом об отправке этого пространства, именуемого человеком, в Сибирь. С человеком, которого нет, механизм делает то же, что он сделал бы с любым человеком. Вместо человека существует имя, и механизм делает с именем то же, что он сделал бы с его обладателем. Когда в машину попадает человек, или кусок железа, или камень, то машина делает с каждым из них то, что по закону сопротивления материалов она может сделать, не интересуясь, кто в нее попал. Она делает, что ей нужно сделать.
Происходят удивительные вещи, которые никого не удивляют: несуществующий человек становится существующим, существующий — несуществующим. Никто этому не удивляется, потому что это привычно, это может быть с каждым. Это может быть с каждым, и для того, чтобы не было сомнения, что так может быть, Тынянов параллельно новелле Ниже строит новеллу Синюхаева. Поручик, который бы не удивился, узнав подлинную историю Ниже, не удивляется и своей истории. Ему не приходит в голову, что в приказе может быть ошибка, и не приходит в голову, что это галлюцинация. Услышав приказ, он огорчился и начал думать о себе в третьем лице: Синюхаев умер, а он не живой, и он не мертвый, он несуществующий. «Он исчез без остатка, рассыпался в прах, в мякину, словно никогда не существовал», потому что «он привык внимать словам приказов, как особым словам, не похожим на человеческую речь. Они имели не смысл, не значение, а собственную жизнь и власть».
Синюхаев не разъяснение Киже. Он нужен для того, чтобы вывести историю Киже из случайности, из анекдота и показать, что это норма, типическое явление. Анекдот стал произведением искусства не потому, что писатель расцветил забавную историю затейливым орнаментом, а потому, что частный случай он превратил во всеобщий. Для превращения частного случая во всеобщий и понадобился Синюхаев, выводящий сюжет за пределы случайности и превращающий его в повествование о типических людях, типических явлениях и типической истории. Случайности «Подпоручика Ниже» так часты, что превращаются в закономерность. Они возникают не из ошибок, описок, недоразумений, а из отнюдь не случайных регламентации, субординации, деспотизма, самоуправства, господского гнева и рабского страха, из всего того, что естественно для всякого самовластия.