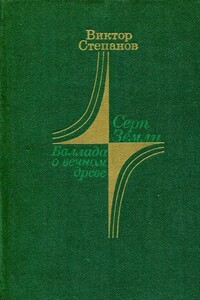Тепло вагонного купе вмиг улетучилось. Было жаль, что так быстро кончался путь; ехали втроем — Валя Злобин, Юра Дергунов, Юра Гагарин, дружные, спорые на песню оренбуржцы.
«Нам золотыми крыльями на плечи погоны лейтенантские легли», — повторял Дергунов чьи-то строки.
И правда — начинающаяся жизнь виделась в галунной позолоте, в блеске звездочек на погонах, в искрящейся голубизне высокого неба, прочерченного острым крылом сверхбыстрого самолета.
А их принимала в свои объятия ночь, близкий океан леденяще овеивал лица, и парадные шинели, и ботинки, до блеска надраенные еще в Москве, показались неловкими, несуразными — люди вокруг толпились в меховых куртках, в унтах. Ночь… Дневная ночь? Бывает и такая? На часах тринадцать ноль-ноль, а лица едва различимы в сумраке, все залито тусклым неоновым светом. И впервые за всю дорогу шевельнулось сомнение: правильно ли поступил?
Выпуск по первому разряду давал право выбора места службы. Предлагали же Юрию Украину! Там, наверное, до сих пор зеленеет травка и небо чистое, как на открытке, посвященной Дню авиации. «Садок вишневый биля хаты, хрущи над вишнями гудуть, плугутари с плугами йидуть…» Кто-то из украинцев научил этим шевченковским стихам. Был и другой вариант: остаться в Оренбурге, в училище, преподавателем-инструктором. Куда лучше: жить в Валином городе, вместе, и ей не надо уезжать от родителей — дома стены помогают. А им создавать семью. До Москвы недалече, а от Москвы до Гжатска подавно. Валя, конечно, была за то, чтобы служил он в Оренбурге. Но уступчиво помалкивала, когда Юрий пылко разъяснял свои доводы, «за» и «против», ратуя за Север. Но ведь видел, понимал, чувствовал, как нелегко давалось ей это согласие.
И, быть может, впервые он так сильно загрустил о жене. Все любимая девушка, все невеста: «Горько! Горько!» — стеснительные поцелуи на людях, и они, двое сами себе видны как бы со стороны, а здесь, на краю земли, вдруг понял — оставил жену. И познабливало не от холода, а от жалости к ней, одинокой, хоть и под родительским кровом.
Из Оренбурга поехали вместе в Гжатск — догуливать свадьбу, а точнее сказать, играть другую. И снова «Горько!», объятия, тосты… Счастливый взгляд матери, впервые увидавшей невестку, напускная степенность отца: «Мы, гжатские, не хуже оренбургских… Горько-то горько, а сладко вам будет когда-нибудь?»
В Москву воззращались с Валей, чтобы расстаться. И он водил ее по знакомым, улицам и площадям, чувствуя вину, беспокойство, как будто мог потерять любимого человека в круговороте толпы, — как это уже было, когда на площади Революции их разметало в разные стороны, и, подскочив на носках, он узнал ее лишь по платку, пронзил устремившийся к эскалатору поток, схватил ее за руку и, счастливый, проговорил: «Если разминемся в следующий раз, жди вон у того матроса». И рассказал, как еще мальчишкой, когда впервые приехал в Москву, удивился взаправдашности бронзового маузера, а потом всякий раз, спускаясь сюда, дотрагивался до кончика ствола.
Поезд в Оренбург отходил раньше, чем тот, что на Север. И они долго бродили по шумному Казанскому вокзалу, потом по перрону, и Юрий, не давая выплеснуться Валиным слезам, все взбадривал ее, напевая слегка измененную им же самим песню:
Дан приказ: ему на Север,
Ей в другую сторону.
Улетали оренбуржцы
В заполярную страну.
Эх ты, судьба вокзальная, чемоданная, офицерская. Не выдержала, всплакнула, когда громыхнули вагонные буфера, а он пошел рядом, и побежал, путаясь в полах новой шинели, махал рукой, выкрикивал что-то. А когда растаяли на вагоне красные огоньки, сам смахнул платком со щеки — может, дождик закапал.
Сейчас, хрупая по снежку в ботинках, успокаивал себя, увещевал: куда Вале было в такую темень, в такую стужу, да и не бросать же ей медучилище. Потерпи, Юрий, до августа потерпи. Взялся за гуж, не говори, что не дюж.
Пока ехали в автобусе до военного городка, где предписано было служить, отгонял от себя расслаблявшие мысли. Юра Дергунов расшевеливал: «Что ж ты, тезка, приуныл, голову повесил, ясны очи замутил, хмуришься, не весел?.. — И подталкивал плечом: — Что такое жена для летчика? Лишние тонны душевного веса. Вот я — холостяк, меня хоть на льдине оставь… Вольный ветер».