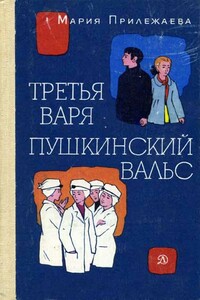Утром Пелагея Федотовна поднялась до рассвета. Как ни трудно было оставить нагретую за ночь постель, Маша в один миг отбросила одеяло и, словно в ледяную прорубь, опустила ноги на пол. Пелагея Федотовна привязала за плечи рюкзак с книгами, простилась с сестрой:
— Ириша, может, надумаешь ко мне во Владимировку?
Ирина Федотовна переехать во Владимировку наотрез отказалась.
— Прощай, Поля. Напиши про Ивана.
Маша вышла с Пелагеей Федотовной из дому. В густой синеве неба над непроснувшимся городом висел запоздалый остренький серпик луны, изредка проезжал грузовик, и снова пустынны улицы.
— До чего же меня потянуло домой! — негромко говорила Пелагея Федотовна. — Нет для меня во всем мире места лучше, роднее Владимировки!
Они вошли в метро. Тревожный свет синих ламп тускло озарял вестибюль. В синем свете, похожие на призраки, двигались люди.
На вокзале, прощаясь с Машей, тетя Поля сняла варежку и с ласкою погладила Машину щеку теплой рукой:
— Ступай-ка домой. Мать береги.
Рассветало, когда Маша подходила к дому. Утро было свежо и чисто, улицы полны звона трамваев.
Громкоговоритель на площади повторял вчерашнее известие о победе. Люди останавливались, слушали, и что-то неуловимо общее было в лицах разных, не похожих друг на друга людей — выражение надежды и строгости.
Прошло довольно много времени, прежде чем Маша собралась к Валентину Антоновичу. По возвращении из эвакуации он стал деканом факультета. Он помолодел в Москве: колечки волос завивались задорнее, бывалая живость вернулась глазам, движениям — легкость, даже довоенный франтоватый галстук появился на шее.
— Здравствуй, землячка! — приветствовал он Машу. — Собираемся понемножку в родные пенаты. А я не забыл ваш доклад! Не забыл.
Приятно, что Валентин Антонович так запросто ее встретил: не надо объяснять приход. Маша пришла в кабинет декана без всякого повода. Так много связано с Валентином Антоновичем! Отчаяние и надежды первых военных месяцев. Бомбоубежище. Эвакуация, голод. Стихи Пушкина и «Севастопольские рассказы». Целая жизнь.
Валентин Антонович закурил, бросил папиросу, постучал по столу пальцами. Что-то его беспокоило.
— Юноши приходят, уходят, а учитель стареет и превращается в брюзгу, которому мир кажется слишком трудно устроенным.
— Случилось что-нибудь, Валентин Антонович? — спросила Маша, не очень веря его старости.
— Да. То есть, нет. Просто я заскучал. Это административное кресло не по мне. Нет, не по мне. Вот, пожалуйте. — Он взял трубку зазвонившего телефона, пожав плечами и призывая Машу в свидетели, как не дают ему покоя. — Восседаю здесь в кресле, — продолжал он, положив трубку, — а дома — начатая статья о «Слове о полку Игореве». Мечтаю об этой статье, как голодный о хлебе, но, видно, не скоро суждено ей сдвинуться с места… А вы, Строгова? Кстати, о вашем докладе. Вы можете его углубить, и он будет вполне на уровне выпускной курсовой работы.
— Почему вы предлагаете мне льготные условия? — замкнувшись, спросила Маша.
— Да нет же, нет! — засмеялся профессор. — Уверен, что вы справитесь с новой работой. Стро-го-ва! Вы оправдываете фамилию. Строгая. В древние времена такие за убеждения шли на костер. Сейчас — на подвиг. На труд без пощады к себе. На любовь, которая спасает, как маяк…
Пожалуй, для первой встречи он наговорил слишком много добрых слов Маше. Но что-то в душе ее встрепенулось и захотело жить.
Многих старых друзей она недосчиталась в институте. Не было Володи Петровых: Володя погиб на фронте. То про одного, то про другого из однокурсников Маша узнавала: воюет, убит, пропал без вести.
Не было…
Но Маша заставляла себя не думать о Мите. И все же думала…
«Митя, я хочу узнать только одно: здоров ли ты? Не хочу ничего больше знать о тебе. Никогда не забуду, что ты мне не поверил. Пусть меня судят самым страшным судом — этого я не могу забыть и простить!»
Она со страхом ждала, что кто-нибудь спросит о Мите Агапове. Но не один Митя — многие выбыли из курса. И лишь Борис Румянцев, у которого глаза, нос, подбородок и скулы стали острее и жестче, и весь он теперь походил на осторожную хитрую птицу, встретив Машу, вспомнил Агапова.