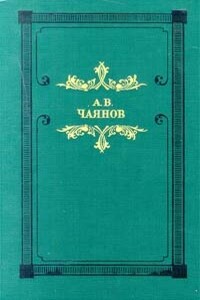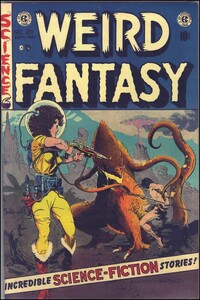Друзья принимают меня за сумасшедшего, и только Протыкин, приободрившийся после уроков, взятых им у господина Менго, и восстановивший свою биллиардную славу, — дружески в знак понимания пожимает мне руку.
Моя охота за незнакомкой тщетна. Я сбил двое ботинок, граня московские улицы… Увы, — без успеха. Я бы давно бросил свои безумства, но клянусь головой Бахуса, что дважды видел ее.
Однажды перед поездкой в Башиловский вокзал я сидел с Ребиндером и Костей Тизенгаузеном в кондитерской Педотти на Кузнецком и бешено спорил о преимуществе голоса Синецкой над прославленным голосом петербургской Колосовой… как вдруг остановился на полуслове… На противоположном тротуаре шла моя незнакомка. Я опрокинул стол и бросился к выходу… Улица была пуста.
Другой раз я гнался за нею по Полянке. Она заметила меня, обернулась, протянула ко мне умоляюще обе руки и вдруг пропала.
Странно было только, что пропасть-то ей было некуда. И справа и слева тянулись заборы замоскворецких садов, и сколько я ни обшаривал их, нигде не было видно никакой калитки.
Смущало меня также и то, что в этот раз она была как бы значительно выше ростом, чем в первые две наши встречи.
Но это была она, бесспорно она. Те же пепельные локоны волос, те же огромные серые глаза, то же сверкающее ожерелье.
Теперь вот уже более недели я не видал ее. С грустью таскаюсь днем по всем московским кабакам и кофейням и, к ужасу своему, пристрастился к курению табака.
Целые ночи напролет страдаю бессонницей, читаю и немилосердно курю трубку за трубкой.
Начал даже понимать тонкости табачного вкуса. Поначалу забирал я арабские и турецкие табаки у греков на Никольской, все больше у Кордия, но, втянувшись, нахожу их жидкими. Купив как-то у мадам Демонси английского, с медом сваренного кнастера, перешел я к табакам американским и наипаче голландским, которые постоянно и лучшего достоинства в старой Ниренбергской лавке у Пирлинга, состоящей на Ильинке в доме купца Варгина.
Якобсон снабдил меня пеньковыми трубками, и я предаюсь отчаянию в голубых струях голландских табаков. Мир отошел от меня, и весьма редко доходят до меня новости, потрясающие Москву; только неделю спустя узнал я о странном исчезновении господина Менго, наделавшем столько хлопот нашему московскому обер-полицмейстеру, добрейшему Дмитрию Ивановичу Шульгину, а о том, как Варька с трелью из Соколовского хора разбила гитару о голову достойнейшего Степана Степановича, узнал только сегодня. Нахожу жалкие радости в самих терзаниях и мечтаю о хорошо обкуренном кенигсбергском янтаре, собираюсь даже в воскресенье двинуть на Смоленский… Может, найду там у старьевщиков.
12 мая 1827 года
Опять я в волнении, опять у меня трясутся все поджилки. Я, кажется, нашел путеводную нить… Однако по порядку.
В поисках за обкуренным янтарем пошел я сегодня, как и намеревался, на Смоленский рынок в старый ветошный ряд.
Долго рылся я безо всякого успеха среди всякого железного хлама, обломанных рюмок, синих стеклянных штофов и изъеденных мышами книг, среди которых попалась мне на глаза занятная книжонка про египетские обыкновения, называемая «Крато репея» и изданная покойным Новиковым.
Янтарей не было, и я уже собирался уходить, как увидал на рогоже среди двух сабель, старого патронташа и всякой дряни фарфоровую трубку удивительной раскраски.
На синеватом фарфоре хитро переплетались знаки зодиака и окружали сверкающий позолотой герб или, быть может, магический пентакль.
Я поднял ее и начал рассматривать. Ничего подобного не было в моей коллекции.
«Что стоит, хозяин?» — спросил я у восточного человека, сидящего перед рогожей на корточках и распространявшего на полверсты запах чеснока.
«Последняя цена пятнадцать рублей», — заломил он с обычной наглостью.
«Я даю двадцать!» — услыхал я голос из-за своей спины.
Обернулся и онемел от внезапной неожиданности. Передо мной стоял мой противник, у которого отбил я в памятный вечер шелковую шаль моей незнакомки.
«Тридцать!»
«Сорок!»
«Пятьдесят!»
«И еще пять!»
«Семьдесят!» — заявил я в ажитации.
«Молодой человек, — обратился ко мне карлик. — Будет вам дурака-то валять. Мне эта трубка нужна в непременности, а вам она ни к чему. Давайте, если уж вам так угодно, разыграем ее на орел или решку».