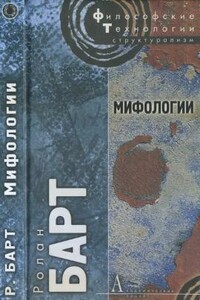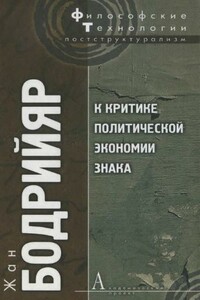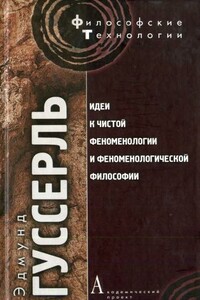Язык - страница 30
Но если в этой трактовке языка, пусть в неопределенной и не до конца проясненной форме, все же выражена полностью самодостаточная общая концепция бытия и духа, то у ближайших последователей Гераклита, усвоивших его учение, это его исходное значение все больше и больше вытесняется. То, что у него еще ощущалось в последних глубинах метафизической интуиции как непосредственное единство, распадается теперь, при дискурсивном рассмотрении и дискурсивной трактовке проблемы языка, на разнородные элементы, на внутренне противоречивые отдельные логические тезисы. Оба мотива, которые метафизика Гераклита была способна увидеть как единство и волевым усилием соединить вместе: учение о тождестве слова и бытия и учение о противоположности слова и бытия, теперь начинают развиваться порознь. Тем самым проблема языка впервые формулируется с действительной понятийной ясностью, однако одновременно попытка перевести основную идею Гераклита из формы символического намека в форму абстрактной мысли привела к раздроблению этой мысли, превращению ее в мелкую разменную монету. То, что было у него тщательно охраняемой тайной, на которую он осмеливался лишь издалека указывать, теперь все в большей степени становится непосредственным предметом постоянных философских дискуссий. «Сократические воспоминания» Ксенофонта дают наглядную картину того, как в Афинах пятого века до н. э. обсуждалась эта тема όρθότης των ονομάτων[14]*, бывшая среди любимых предметов диспутов на симпоси — ях[5]. Является ли связь между формой языка и формой бытия, между сущностью слов и сущностью вещей естественной или же всего лишь опосредованной, конвенциональной? Выражается ли в словах внутренняя структура бытия или же в них нет иного закона, кроме приданного ему произволом создателей языка? И если верно второе: не получается ли (если при этом вообще признается хоть какая‑то связь между словом и смыслом, между речью и мышлением), что момент произвольности, неизбежно присутствующий в слове, ставит под сомнение и объективную детерминированность, объективную необходимость мышления и его содержательных составляющих? Похоже, что по этой причине софистика, чтобы утвердить свое положение об относительности всякого познания, чтобы доказать, что человек является «мерой всех вещей», смогла добыть свое наиболее мощное оружие из анализа языка. Действительно, с самых первых шагов ее настоящим обиталищем была та пограничная область слов, что расположена между «объективной» и «субъективной» действительностью, между человеком и вещами; там создает она свой плацдарм, чтобы оттуда вести борьбу с притязаниями «чистого», якобы обязательного для всех мышления. Изощренная игра, которую она ведет со словами, дает ей власть и над вещами и позволяет ей растворять их определенность в свободном движении духа. В результате первая сознательная рефлексия относительно языка и первый опыт сознательной власти духа над языком одновременно приводят к господству эристики', однако в то же время эта первая попытка сознательного освоения содержания и первопричины речи порождает и реакцию, приведшую к новому обоснованию и новой методологии построения понятия.
Если софистика улавливает и акцентирует в слове момент многозначности и произвольности, то Сократ выделяет в нем определенность и однозначность, правда, не данные в нем как факт, но содержащиеся в нем в качестве латентного требования. Предполагаемое единство словесного значения становится для него исходной точкой, с которой начинается характерный для него вопрос, вопрос τί εστί[15]*, о тождественном и неизменном в себе смысле понятия. Если слово не содержит в себе этот смысл непосредственно, то оно все же постоянно указывает на него — и задача Сократовой «индукции» состоит в том, чтобы понять этот знак, подхватить его и развить, превратив в истину. За текучим и неопределенным образом слова должен быть обнаружен постоянный тождественный образ понятия, эйдос, собственно и являющийся залогом возможности речи и мышления. Платон опирается на эти основные предпосылки сократической философии, и они определяют его отношение к слову и языку. В молодости он был учеником Кратила, который в противоположность софистам представлял иную, позитивную сторону Гераклитовой мысли, усматривая в словах непосредственное и истинное, выражающее сущность вещей средство познания. Тождество, что для Гераклита было тождеством языка как