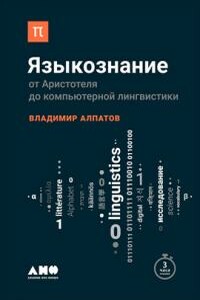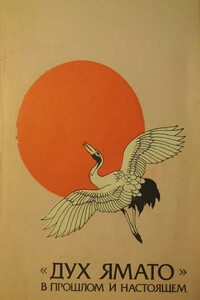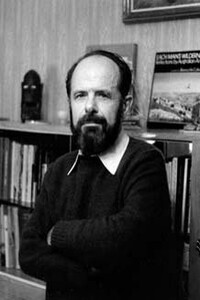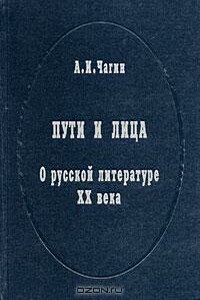Еще один из авторов журнала, языковед Тадао Кабасима, более осторожный в выводах, тем не менее указывает, что сложная японская письменная система становится проблемой и что японский язык вступает в новый революционный период, сопоставимый с периодами 60—80-х годов XIX в. и 40-х годов XX в. [55]
Насколько обоснованны и реальны такие новые для Японии заявления? В том, что говорится о сложности освоения иероглифов иностранцами, конечно, есть рациональное зерно, хотя степень этой сложности представляется нам преувеличенно [56], а о прекращении бума в изучении японского языка говорить пока нет оснований. С другой стороны, эти мнения показывают явный отход от традиционного японского языкового изоляционизма. Если до недавнего времени в японском массовом сознании господствовало представление о том, что японский язык — национальное достояние, а иностранец, особенно принадлежащий к другой расе, не в состоянии овладеть японским языком [57], то теперь в результате экономических успехов на смену этому представлению приходит заинтересованность в международном распространении и мировой роли своего языка, еще 30–40 лет назад нехарактерная для Японии. Иногда, как мы видим, появляется и другая крайность, когда ради интернационализации языка готовы пожертвовать даже привычной системой письма.
Большинство японских социолингвистов не принимают описанные выше идеи. Так, виднейший современный социолингвист Такэси Сибата в недавней беседе по радио, отметив сложности и несовершенство японской системы письма, влияющие на его изучение иностранцами, указал, однако, что иероглифическая система поддерживается отношением японцев к языку: для европейца слово — прежде всего то, что сказано, но для японца оно осознается в первую очередь как нечто написанное, связанное с иероглифом или сочетанием иероглифов [58]. Другой известный ученый, Судзуки Такао, пожалуй более всех японских лингвистов отстаивающий необходимость мирового распространения японского языка, назвал в разговоре с нами в декабре 1990 г. идеи о немедленном переходе на латиницу абсурдными.
Пока ничего не изменяется и на практике. Наоборот, число иероглифов в принятом минимуме (имеющем лишь рекомендательный характер) имеет тенденцию к расширению. Существовавший в 1946–1981 гг. список из 1850 иероглифов «тоё-кандзи» был в 1981 г. заменен новым списком «дзёё-кандзи», где в основной перечень вошли 1945 иероглифов. В дополнительный перечень иероглифов, рекомендуемых для использования лишь в собственных именах, первоначально было включено 166 знаков, однако 1 апреля 1990 г. он был дополнен еще 118 иероглифами. Таким образом, общий список «дзёё-кандзи» состоит теперь из 2229 знаков. Показательно, что информация о расширении иероглифического минимума публикуется в том же номере журнала «Нихонго», где напечатаны упомянутые выше статьи с предложением перейти на латинский алфавит [59].
Анализ добавленных знаков, впрочем, показывает, что реально они никогда и не выходили из употребления. Например, в названиях вроде Арасияма (местность в пригороде Киото), Каябатё (квартал и станция метро в Токио) их компоненты араси, кая всегда писались иероглифами, допущенными в минимум лишь в 1990 г. Количество же реально используемых иероглифов и сейчас не исчерпывается минимумом, который лишь приспосабливается к языковой реальности: в редакции газеты «Асахи-симбун» используется около 5 тыс. иероглифов, т. е. более чем вдвое больше минимума.
Идеи об изменении японской письменности в связи с интернационализацией только начинают появляться, и их нельзя назвать массовыми. Но уже само их появление, вряд ли возможное в недавнем прошлом, заставляет задуматься. О том же, насколько они реальны, судить пока рано.
В последние годы много написано о «языковом геноциде» и вымирании языков малых народов в СССР. Однако достаточно хорошо известно, что такая проблема вовсе не составляет специфику нашей страны и существует при самых различных социальных системах.
В индустриальном обществе независимо от языковой политики языки малых народов, находящихся на доиндустриальных стадиях развития, объективно оказываются в неблагоприятном положении. Любое индустриальное развитие связано с усилением контактов между людьми, развитием социальных связей, ростом миграций. А как совершенно справедливо отмечает А. Е. Кибрик, «чем больше контактов с другими этносами, особенно на другом языке, тем это хуже для жизнедеятельности данного этнического языка… Этносы, сохраняющие в значительной степени традиционную форму существования (уклад семьи, трудовая деятельность, жилище и т. п.), имеют больше шансов сохранить язык; при социальной адаптации к современным формам существования сохранение языка затруднено» [Кибрик, 1992, с. 69–70].