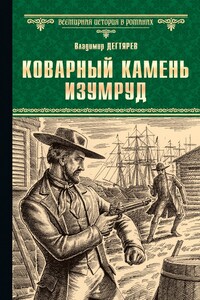Третий в компании купцов смолчал, ибо он как самый молодой говорить мог только по знаку того, злого и старшего, ложным именем «Мишель де Круаз», а на самом деле — Мойша из Пизы. Молодого франкского купца все звали Зуда, родился он в Новгороде, и там же крещён был как Зуда Пальцин.
Мишель де Круаз продолжал буйствовать:
— Я каждый день требую к себе позвать конюшего или, как тут у них, именем Шуйский! А его не зовут! Что здесь за порядки?
Зуда Пальцин кашлянул, тихо сказал:
— Я извиняюсь, патрон, но вот этот господин в богатых одеждах, что к нам заходит, это и есть боярин Шуйский.
Тотчас пустая глиняная корчага из-под пива разбилась об голову Зуды.
— А что молчал, скотина?
— Мне тобой и велено молчать... — прошелестел Зуда Пальцин. Как же ему не молчать, когда ещё месяца не прошло, как ему сделали обрезание по краю плоти да заодно сотворили из него евнуха. По пьяной и весёлой гульбе.
Вырезание сделали Зуде Пальцину за малый долг в десять рублей, которые он в срок не возвернул этому лихоимцу, Мойше из Пизы. Занимаешь золотишко — своим «золотом» и платишь!
* * *
Шуйский осторожно задвинул потайное окошечко, бывшее, если смотреть из гостевой комнаты, всего лишь частью специально удлинённого серебряного оклада тёмной, древней иконы.
— Этого парня мы возьмём в тихую работу, — сказал Радагор. — А тот молчун французский — довесок к этому, громогласному и наглому. Их товары у тебя?
— Там малый сундук с каким-то порошком, будто лекарство. И три бочонки из дерева бука с деньгами. С золотом.
— На великого князя заготовлен тот порошок, так думаю. — Радагор хищно глянул на Шуйского. — А золото тебе привезли. Как плату за Схарию.
— Понимаю, но хрен продамся за три бочонка! — отшутился боярин Шуйский. — А вот зачем они привезли целый ворох поношенного женского платья — ума не приложу. Воняет от него так, что... за версту не устоишь, упадёшь. То платье упаковано в огромную бочку. Неужто собрались тряпьём торговать?
— Нет. Не торговать. — Радагор о чём-то помыслил, потёр короткую густую бороду, добавил: — Схария уже неделю держит пост. Запросил себе воронку и крынку.
— Зачем?
— Пошли покажу.
Они поднялись по крутой лестнице на второй этаж, нагнулись и пролезли в пустое межоконное пространство, откуда неделю назад наблюдали словесный поединок между великим князем и заводчиком жидовской ереси на Руси. Вместо одного кирпича там был вделан в стену такой же по размеру кусок полированного хрусталя. Из потайного хода хрусталь прикрывала обычная тряпка, чтобы в случае чего в горнице у затворника не сверкнуло. Радагор убрал тряпку.
— Гляди.
Шуйский глянул, шёпотом выругался. Схария... свесился с лавки головой вниз, опёрся плечами на пол, а ноги держал вверх. Промеж ног у него торчала медная воронка. В неё он старательно наливал из кринки воду.
— Сбрендил? — спросил Шуйский.
— Нет. Видать, проходил подготовку в тайных школах ордена иезуитов. Так он промывает себе кишки.
— Зачем?
— А чтобы потом ему не гадить дней пять. Когда его уворуют от нас и повезут тайком, в той бочке под женским платьем в Литовщину или Польшу.
— Пусть воруют и пусть везут! — неожиданно сказал Шуйский. — Главное — знать, куда его в конце концов привезут!
Никола Моребед всю зиму мотался по степям между Доном и Волгой. При нём в особом железном ларце находились золотая печатка великого князя Московского и листы бумаги, орлёные поверху, чистые.
В казачьих куренях Никола те бумаги заполнял как надо, а подписывали их казацкие писарчуки, люди грамотные, доподлинно знающие цену слова. Цена являла собой вид старинного серебряного динария в детскую ладонь величиной. И в степь бегать не надо за косяком лошадей в сотню голов: за такой динарий тебе самому столько лошадей пригонят с поклонами! За ту цену писцы выводили Моребеду такие подписи в треть листа — хан Батый испугался бы. Под той подписью много дела было обещано исполнить казаками для пользы и радости государя всея Руси Ивана Васильевича.
В кипчакских, татарских да ногайских улусах грамотные абызы и бии[95] тоже зарились на Николино серебро. Им, по нынешним временам, жить приходилось бедно. Нынешней расползающейся Орде требовались воины, и каждый воин теперь был сам себе и поп, и судья: у кого сабля, тот и абыз.