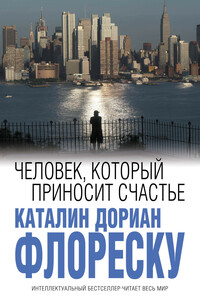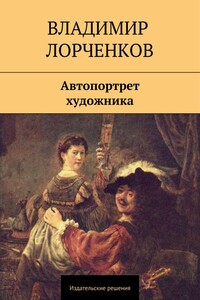Отец не ответил, наверное, он ей просто кивнул, потом налил еще шнапсу.
— Теперь скажи нам и вторую причину, Рамина. Просто так, любопытно, — попросил дед.
— Лучше вам этого не слышать. Ведь мы и так поладили.
— Нет-нет, давай, говори, — подбодрила ее мать.
— Ну ладно. Если я не скажу сейчас, то другой возможности уже не будет. Но сперва закройте дверь в комнату Якоба. Ему это знать ни к чему.
Невидимая рука повернула ручку двери. Как я ни напрягал слух, из дальнейшего разговора я слышал только шепот, прерываемый стонами матери. Второй довод в пользу Сарело я узнал лишь много лет спустя.
В тот день, когда Рамина навсегда исчезла из моей жизни, меня с ней не было. Меня оставили дома, потому что я все еще болел. Мать вернулась первой, села на край кровати и пощупала мне лоб, проверяя температуру.
— Где остальные? — спросил я.
— Грузят все на нашу телегу. Ночью привезут сюда.
Мать рассказала, что ранним утром на нескольких грузовиках приехало полроты солдат под командой капитана. Никто не сказал им, что с холма ушли все цыгане, кроме Рамины. Сарело уже сидел на повозке между отцом и дедом, как будто там всегда было его место.
Капитан растерянно осмотрелся, потом спросил отца, куда же делись цыгане, которых он должен вывезти. Отец объяснил ему, что, кроме Рамины, никого не осталось, а ее бесполезно пытаться выгнать из дома. Ее и десять лошадей не вытащат, коли она не захочет. «Десять лошадей, может, и не вытащат, а вот румынская армия…» — ответил капитан.
Он отправился на вершину холма, а его солдаты остались топтаться на месте. Дед угощал их сигаретами, и они жадно курили. Через какое-то время капитан вышел из Рамининой развалюхи в еще большей растерянности. Это было заметно издалека, сказала мать. Он спустился с холма и подозвал четверых солдат.
Тем временем распространился слух, что Рамину собираются вывезти, из деревни собралось много крестьян и детей, желавших посмотреть на это событие. Однако они держались поодаль, опасаясь людей в форме. Солдаты отложили винтовки, побежали вверх по склону и скрылись в доме.
Некоторое время ничего не происходило, потом один солдат вышел, выглядел он тоже растерянно и жестом что-то показал капитану. Тот выругался — раскатисто и сочно, по-румынски, — и ткнул пальцем в сторону одного крестьянина.
— Эй, ты! Ступай домой и принеси инструменты, нам надо проломить стену. — Крестьянин не тронулся с места. — Ну, что стоишь? Мне что, целый день тебя ждать?! — И офицер снова выругался.
Когда крестьянин вернулся, солдаты взяли у него инструмент и принялись за работу. Довольно скоро они пробили в утлой стене дыру, через которую можно было вынести не то что Рамину, а целую лошадь. Последовали дальнейшие приказы капитана, часть солдат выстроилась цепью снаружи, и из дома до улицы донеслась команда: «На счет „три“ — поднимай!»
Сначала показался край дивана, потом трое-четверо крепких солдат, потом Рамина, восседающая, как на троне. Ее так бережно пронесли через пролом в стене, будто не желали причинить никакого вреда, а только служили ей. Преданно и терпеливо диван выдерживал ее вес. Когда вся Рамина вместе с диваном оказалась снаружи, ношу приняли плечи других солдат. На пути вниз по склону их сменила третья группа. Рамина парила по воздуху на руках и плечах множества людей, и на секунду показалось, что она легкая, как перышко. «Она была как королева», — сказала мать.
Солдаты с трудом перенесли Рамину через канаву, затем погрузили на грузовик. «Пусть они там в городе разбираются, что с ней делать», — проворчал капитан. Прямо и неподвижно сидела она в кузове и смотрела на людей сверху вниз. Потом случилось нечто удивительное. Кто-то из ребятишек крикнул: «До свидания, Рамина!» Некоторые крестьяне тоже попрощались с ней, в том числе мать и дед. «До свидания, люди, — ответила она. — Увидимся на небесах. Не знаю, как насчет вас, но я точно туда попаду».
Колонна грузовиков тронулась, Рамина до последнего смотрела назад и видела, как холм, деревня, вся ее жизнь необратимо удаляются от нее. Деду пришлось держать Сарело, чтобы он не побежал следом и не выдал себя. В руках деда он стал сначала твердым, как камень, а потом размяк, словно тесто.