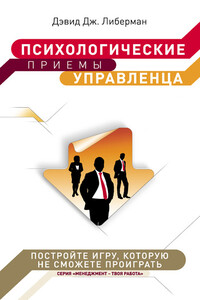Распознавание лжи в криминалистике
Как и прежде, вещественные доказательства играют в криминалистике весьма значительную роль. К «железным» доказательствам относятся также зафиксированные следы, оставленные на месте преступления, отпечатки пальцев, ДНК или такое знание, которым мог обладать только преступник. Вокруг этих незыблемых и неоспоримых фактов выстраивается всесторонне продуманная тактика допросов, ориентированная на поиск взаимосвязей и противоречий, чтобы в итоге побудить предполагаемого преступника, который в целях самозащиты либо молчит, либо лжет, к признанию. Или же, в крайнем случае, полностью изобличить его и без признания. Если он избегает давать показания, к чему его обычно склоняют и адвокаты, то это верный знак, что расследование сто́ит продолжать, что время, энергия и работа мысли, вложенные в него, в конце концов полностью окупятся. Человек, которому нечего скрывать, не молчит!
Но что делать, когда нет ни однозначных фактов, ни явных следов, ни весомых улик? Что делать, если супруг/ супруга утверждает, что не знает, чей номер записан у него/у нее на мобильнике, несмотря на то что этот номер то и дело возникает в списке исходящих звонков? Что делать, если маленький Петер упрямо стоит на своем: «Это не я!» – и ничего другого от него не добьешься? В таких случаях только стратегией поиска и тактикой допроса не обойтись.
Как и в случае «Сарая». Здесь у нас было сильное подозрение, основанное на нескольких донесениях информантов, однако из-за своего сотрудничества со спецслужбой эти люди ни при каких обстоятельствах не могут фигурировать в качестве свидетелей. Для тайного осведомителя это плюс, так как он не подвергается опасности быть разоблаченным, а для спецслужбы, полиции и прокуратуры – минус, поскольку они не могут использовать сообщения информантов для обоснования таких мер, как обыски, аресты, прослушивание телефонных переговоров подозреваемых и т. п. Кажется, что подобная система сама себя доводит до абсурда. Но без этой конструкции, пусть небезупречной и противоречивой, органы госбезопасности получали бы гораздо меньше информации. Государство стало бы незрячим. Поэтому в таких ситуациях приходится выбирать другие пути. Оставлять в стороне жесткие факты и думать о мягких, вкрадчивых действиях.
Когда Тихов по просьбе Бюлента вез двоих парней из Мюнхена в Детмольд, он заподозрил – главным образом по их поведению и физическим реакциям, – что здесь что-то неладно. По его словам, он почувствовал запах страха. Хорошей зацепкой для начала криминалистического расследования это не назовешь, но общая картина была схвачена точно. Я не верил в теоретические познания Тихова – едва ли он штудировал специальную литературу, посвященную методам выявления лжи. Но я верил в его инстинкт, в его знание людей и необычайную наблюдательность.
Справедливо ли мнение, что в принципе при достаточном внимании не так уж и трудно распознать, когда другие люди лгут? Возможно, оно было бы справедливо, если бы наш конкретный опыт не утверждал обратное. Нет, это не так. Хотя и мы вполне способны на то, на что способен пресловутый детектор лжи. Мы способны понять, что человек, находящийся перед нами, испытывает стресс. Тот, кто лжет, всегда переживает стресс. В ходе опроса испытуемого детектор лжи непрерывно регистрирует изменения различных физических параметров: дыхания, артериального давления, пульса, электропроводности кожи. Человеческий детектор лжи работает по-другому.
Ложь – один из самых сложных процессов, известных нашему мозгу. Ложь всегда связана с необходимостью вести в уме двойную бухгалтерию.
Если кто-нибудь уже пробовал скрыть от партнера некую сделку, то он знает, о чем я говорю. Тот, кто лжет, всегда испытывает повышенную нагрузку, моральную и физическую. И, исключая профессиональных обманщиков, ведет себя не так, как обычно. Хочет он этого или не хочет. Тот, кто лжет, должен стопроцентно сконцентрироваться на своих измышлениях. А значит, уже не может сосредоточиться на других вещах. Он не может контролировать все, что нуждается в контроле, и поэтому производит несколько неестественное впечатление. В первую очередь это касается языка жестов. А звучание голоса, интонация? Как правило, они тоже изменяются.