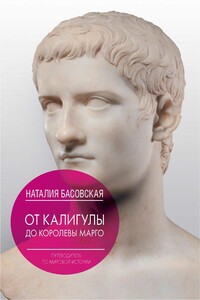Наконец нас пустили в комнату. Мама была живая, это главное, а то, что у меня родился брат, меня сначала не интересовало.
Братик оказался очень смешным, с длинными темными волосами и, несмотря на голод, довольно толстенький. Мама мне поручила отправить папе телеграмму: «Сережа приехал». Видимо, мама стыдилась глагола «родился». Маленькому Сереже пришлось сразу же познакомиться с нашей действительностью. Мама заболела родильной горячкой, и я поила братика разбавленным молоком, а когда не было молока, по деревенскому способу прожевывала ложку пшенной каши, заворачивала эту еду в тряпочку и совала малышу в рот. Я занозила себе ногу, и у меня началась флегмона с высокой температурой. Я лежала, а мама набивала печь дровами — благо она сделала запасы, ставила в печь кашу и успевала накормить нас до того, как у нее поднимался жар. Молоко нам иногда приносили. Но вот настала катастрофа: в ведрах кончилась вода. Я понимала, что мы все умрем без воды. Целый день к нам никто не заходил. Только поздно вечером к нам пришла мамина знакомая и притащила воды.
В тридцатых годах я поехала в Екатериноградскую за какой-то справкой для папы, который поступал на работу в Торгсин (руководила тогда этим заведением жена Каменева). Шла коллективизация. Истребление крестьян. Оно не обошло и станицу Екатериноградскую. Я увидела мертвую деревню. Окна домов были забиты досками. Некогда богатые огороды поросли сорняком. Роскошные абрикосовые деревья почему-то прогнулись, дали трещины. На церковной площади росла трава, в церкви давно не было служб. Я увидела детей с вздутыми от голода животами. Советская власть, которая мне нужна была для справки, находилась в поле — пасла колхозное стадо. Я отправилась туда. Вокруг костра сидели девушки и парни. Они варили все ту же пшенную кашу. Приняли меня приветливо, угостили кашей, выдали справку, и я с ними проговорила всю ночь до утра. Их мобилизовал комсомол. Они приехали из Моздока в деревню, откуда выселили крестьян в Сибирь, часть из которых была расстреляна. Мои новые знакомые жалели так называемых кулаков, они их уже не застали, но увидели разоренную станицу. И я их жалела, хотя помнила свое голодное детство в этой некогда зажиточной станице. Удивительно, по тем временам, что никто из ребят на меня не донес, и я благополучно вернулась в Москву.
Самым трудным было пилить дрова, особенно зимой. У нас была большая пила, которой мы плохо владели: она то и дело соскакивала с бревна, делала новые и новые углубления, ее часто заедало. Руки замерзали, становились чугунными, потом мы прислонялись к печке, пальцы начинали согреваться, и мы с мамой стонали от боли.
В нашей жизни бывали разные периоды: лепешки из кукурузной муки сменялись, когда мука кончалась, воблой — она висела гирляндами у печи, — после этой рыбы, которой пропахла вся наша одежда, в доме появился целый мешок пшена, потом настало время отрубей. Как-то мама, уезжая в город, обещала что-нибудь привезти вкусное. Вернулась она вечером, дети уже спали. По радостному выражению лица мамы я поняла, что она принесла нечто очень необычное. Мы с ней сели за стол, она налила в блюдце ароматное настоящее подсолнечное масло, вынула из мешка серую мучную лепешку, и мы, молча, сосредоточенно стали макать куски лепешки в золотистую жирную жидкость. Я не помню, чтобы я когда-нибудь ела что-то вкуснее этого. Судя по маминому счастливому лицу, она была того же мнения.
Иногда мама мечтала вслух или просто хотела утешить меня. Она говорила, что скоро все будет замечательно, у всех будет еда, все смогут учиться, я пойду в школу, Наташа — в детский сад, а Сережа — в ясли. В эти минуты я себя чувствовала мудрее мамы. Я верила только в Христа.
В станице открыли кооператив. Лавка упростила жизнь деревни, отпала необходимость ездить в город за фабричными товарами. Заведующий, он же и продавец, был прислан из города. Этот огромный детина был единственным представителем новой власти в станице. Но вскоре, рано утром, когда Степан — так звали продавца — открывал лавку, его застрелили. Товары тут же разграбили, и кооператив навсегда прекратил существовать