Взгляд на русскую литературу 1847 года - страница 27
Любовь обходится им еще дороже, потому что это чувство само по себе живее и сильнее других. Обыкновенно любовь разделяют на многие роды и виды; все эти разделения большею частию нелепы, потому что наделаны людьми, которые способнее мечтать и рассуждать о любви, нежели любить. Прежде всего разделяют любовь на материальную, или чувственную, и платоническую, или идеальную, презирают первую и восторгаются второю…… Действительно, есть люди столь грубые, что могут предаваться только животным наслаждениям любви, не хлопоча даже о красоте и молодости; но даже и эта любовь, как ни груба она, всё же лучше платонической, потому что естественнее ее: последняя хороша только для хранителей восточных гаремов… Человек не зверь и не ангел; он должен любить не животно и не платонически, а человечески. Как бы ни идеализировали любовь, но как же не видеть, что природа одарила людей этим прекрасным чувством сколько для их счастия, столько и для размножения и поддержания рода человеческого. Родов любви так же много, как много на земле людей, потому что каждый любит сообразно с своим темпераментом, характером, понятиями и т. д. И всякая любовь истинна и прекрасна по-своему, лишь бы только она была в сердце, а не в голове. Но романтики особенно падки к головной любви. Сперва они сочиняют программу любви, потом ищут достойной себя женщины, а за неимением таковой любят пока какую-нибудь: им ничего не стоит велеть себе любить, ведь у них все делает голова, а не сердце. Им любовь нужна не для счастия, не для наслаждения, а для оправдания на деле своей высокой теории любви. И они любят по тетрадке и больше всего боятся отступить хотя от одного параграфа своей программы. Главная их забота являться в любви великими и ни в чем не унизиться до сходства с обыкновенными людьми. И однакож в любви молодого Адуева к Наденьке было столько истинного и живого чувства; природа заставила на время молчать его романтизм, но не победила его. Он бы мог быть счастлив надолго, но был только на минуту, потому что все сам испортил. Наденька была умнее его, а главное попроще и естественнее. Капризное, избалованное дитя, она любила его сердцем, а не головою, без теорий и без претензий на гениальность; она видела в любви только ее светлую и веселую сторону и потому любила как будто шутя – шалила, кокетничала, дразнила Адуева своими капризами. Но он любил «горестно и трудно», весь задыхающийся, весь в пене, словно лошадь, которая тащит в гору тяжелый воз. Как романтик, он был и педант: легкость, шутка оскорбляли в его глазах святое и высокое чувство любви. Любя, он хотел быть театральным героем. Он скоро все переболтал с Наденькой о своих чувствах, пришлось повторять старое, а Наденька хотела, чтоб он занимал не только ее сердце, но и ум, потому что она была пылка, впечатлительна, жаждала нового; все привычное и однообразное скоро наскучало ей. Но к этому Адуев был человек самый неспособный в мире, потому что собственно его ум спал глубоким и непробудным сном: считая себя великим философом, он не мыслил, а мечтал, бредил наяву. При таких отношениях к предмету его любви ему был опасен всякий соперник, – пусть он был бы хуже его, лишь бы только не походил на него и мог бы иметь для Наденьки прелесть новости, а тут вдруг является граф, человек с блестящим светским образованием. Адуев, думая повести себя в отношении к нему истинным героем, через это самое повел себя, как глупый, дурно воспитанный мальчишка, и этим испортил все дело. Дядя объяснил ему, но поздно и бесполезно для него, что во всей этой истории был виноват только один он. Как жалок этот несчастный мученик своей извращенной и ограниченной натуры в последнем его объяснении с Наденькой и потом! в разговоре с дядею! Страдания его невыносимы; он не может не согласиться с доводами дяди и между тем все-таки не может понять дело в его настоящем свете. Как! ему унизиться до гак называемых хитростей, ему, который затем и полюбил, чтоб удивить себя и мир своею громадною страстию, хотя мир и не думал заботиться ни о нем, ни о его любви! По его теории, судьба должна была послать ему такую же великую героиню, как он сам, и вместо этого послала легкомысленную девчонку, бездушную кокетку! Наденька, которая еще недавно была в глазах его выше всех женщин, теперь вдруг стала ниже всех их! Все это было бы очень смешно, если б не было так грустно. Ложные причины производят такие же мучительные страдания, как и истинные. Но вот мало-помалу он перешел от мрачного отчаяния к холодному унынию и, как истинный романтик, начал щеголять и кокетничать «своею нарядною печалью». Прошел год, и он уже презирает Наденьку, говоря, что в ее любви не было нисколько героизма и самоотвержения. На вопрос тетки: какой любви потребовал бы он от женщины? он отвечал: «Я бы потребовал от нее первенства в ее сердце; любимая женщина не должна замечать, видеть других мужчин, кроме меня: все они должны казаться ей невыносимы; я один выше, прекраснее (тут он выпрямился), лучше, благороднее всех. Каждый миг, прожитый не со мной, для нее потерянный миг; в моих глазах, в моих разговорах должна она почерпать блаженство и не знать другого; для меня она должна жертвовать всем: презренными выгодами, расчетами, свергнуть с себя деспотическое иго матери, мужа, бежать, если нужно, на край света, сносить энергически все лишения, наконец, презреть самую смерть, – вот любовь!»



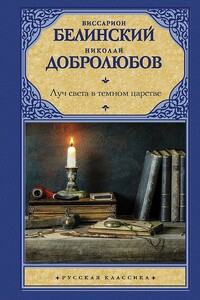
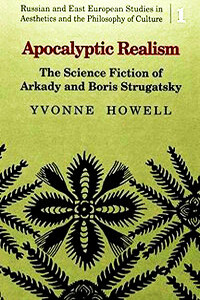
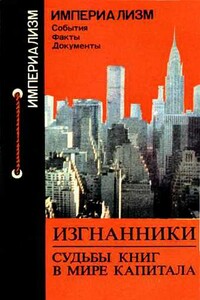
![Музыка прозы И.С. Тургенева [статья]](/build/no_cover.398201c8.jpg)