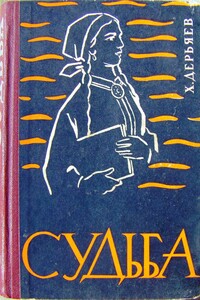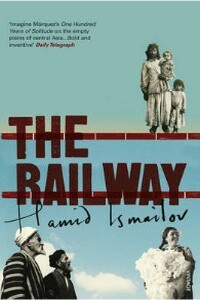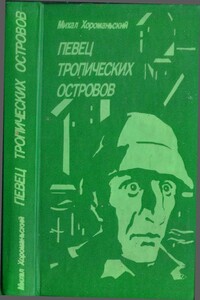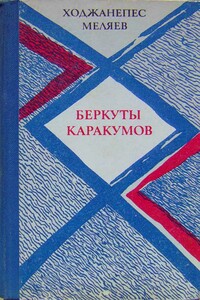Когда-то, в давние времена, жила-была красавица девушка. И был у нее любимый — молодой, пригожий парень. Оба они были музыкантами, и так умели они играть, что, слушая их, люди забывали обо всем на свете. И никак не могли решить, кто из них лучше играет. Когда слушали девушку, думали, она лучше, слушали парня, думали — он… Тем и добывали они себе хлеб, потому что оба были из бедняцких семей и не было у их родителей ни скота, ни земельных наделов.
И вот молва о замечательных музыкантах достигла ханского двора. Приказал хан привезти их на той: пусть развлекают своей игрой гостей.
Целый день и целую ночь играли замечательные музыканты, услаждая хана и его гостей. А когда на следующее утро они собрались покинуть той, хан сказал: «Парень пусть уезжает, а девушка должна остаться — я решил жениться на ней». Услышав ханский приказ, девушка с парнем впали в великую печаль. Приблизились они к хану, и каждый сыграл ему свою лучшую песню. И понял хан, что невозможно их разлучить, что соединила их великая любовь. И тогда приказал он повесить парня. Но когда приговоренного подвели к виселице, он превратился в соловья и улетел от своих палачей. А девушка, не желая стать женой немилого, пришла к родителям того парня и превратилась в розу — пышный розовый куст расцвел возле их дверей. Соловей прилетает, садится на розовый куст и сладостным своим пением тешит обездоленных стариков…
— Чего это ты сбежал? — голос брата оторвал Сердара от мечтаний. Он вздрогнул, но ничего не сказал, даже не взглянул на Мереда.
— Зазнался? Думаешь, раз лучший ученик, так молла будет умолять тебя вернуться?
— Убирайся! Иди к своему молле! Подлизывайся к нему. Помой ему ноги перед намазом. Можешь потом вылакать эту воду! Только все равно — лучшим тебе не быть!
— Это ты мой, чтоб на дыбу не попасть!
— Не бойся: моя нога в дыбу не попадет. Не придется тебе еще раз молле услужить.
Сердар поднялся и пошел к дому, Меред поплелся за ним. Всю дорогу братья не разговаривали. Старший делал вид, что вовсе и не хочет говорить с Сердаром, он все пыжился, как бычок, объевшийся люцерны. А возле кибитки не утерпел:
— Ну ты чего злишься? Твою, что ли, ногу я в фалаку сунул? Лезешь не в свое дело. На том ишаке твоего вьюка не было!
— Нет, был!
— Тогда чего ж ты ему не помог?
— Старший брат мой помог!
Меред промолчал, — нечего ему было сказать, только скривил в ответ рожу. Пришли в кибитку. Каждый забрался в свой угол, сидят — насупились.
Бабушка сразу поняла, что дело неладно.
— Что, ребятки, никак поругались?
Сердар промолчал, только носом шмыгнул. А Меред словно только и ждал вопроса.
— Вот, бабушка, Гандым озорничает, в школу не ходит, моллу ругает… Молла Акым решил его наказать, велел Сердару, чтоб помог, а он не захотел. Я помог молле, а он меня всю дорогу ругал за это! — Меред обращался к бабушке, а сам то и дело поглядывал на отца — очень уж ему хотелось, чтоб тот отлупил или хотя бы как следует отругал брата.
— Сердар, — ласково сказала бабушка. — Надо делать, как велит учитель. Ты должен быть почтительным с моллой.
— Не буду! — проворчал Сердар.
— Вот слышишь, бабушка? Вот так же он и с моллой! Он говорит, что и учиться не будет!
Перман был сильно не в духе — дела последнее время шли все хуже и хуже.
— Не будешь?! — угрожающе произнес он, поднимаясь с места.
Сердар молчал. Отец подождал немного. Ответа не было. Перман подошел к сыну:
— Ты что молчишь? Язык отнялся? Отвечай, когда спрашивают.
Сердар не произнес ни слова. Не шевельнулся… Отец дал ему пощечину. Потом другую. Сердар потер щеки, отвернулся и беззвучно заплакал. Он не произносил ни звука, хотя рыдания душили его. Он не хотел, чтоб отец видел его слезы. Отец не увидел их. Он не заметил слез Сердара и не подозревал, что творится в его душе.
Перман лежал, привалившись спиной к тощей охапке дров, брошенной у входа в кибитку. Взял прутик, разломил его, бросил. Поднял другой, опять разломил, бросил… Не в силах выбраться из-под тяжкого вьюка раздумий, он то и дело глубоко вздыхал и один за другим ломал прутики…
Смерть жены, падеж овец, неудача с посевами пшеницы — беды и невзгоды одна за другой ложились на его плечи, пригибая к земле, не давая распрямить спину. То время, когда он владел тремя десятками овец, обменивая их шерсть на зерно и масло, когда он доил своих овечек и лакомился свежим гуртом, сделанным из овечьего молока, казалось теперь Перману счастьем, мечтой, сновиденьем… Заросла та тропинка к счастью. Теперь вот сиди, вспоминай да вздыхай потихоньку…