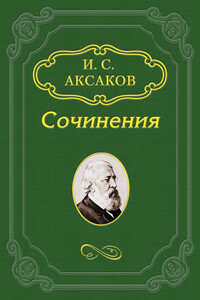Из числа открывшихся уже выставок две представляют совершенно противоположных вида и явления… Обе явились в академических залах, но ничего не имеют схожего одна с другою.
В залах Академии художеств компания художников, почти вся сплошь состоящая только из художников-молодежи и притом молодежи, которая только немного дней тому назад выступила из сословия учеников. Она рвется и мечется вперед, хлопочет, пенится и кипит, как молодое вино. В залах Академии наук, напротив, компания художников, почти все только пожилых или с проседью, которые видели уже много видов, да и показывали видов — тоже немало. Те все еще почти нигде не бывали, нигде еще себя не показывали, здесь первый их выезд, они выступают в свежих костюмчиках, неизмятых галстучках, фалдочках и воротниках. Эти — уже в поношенных фраках, с твердо сложившимися складками, в надеванных много раз перчатках и со шляпами-клак подмышкой, на которых пружины уже давно твердо отпечатались.
С кого начинать? Начну с последних. Ведь принято с beau sexe'a.
Когда на всемирной парижской выставке 1889 года выстроена была Эйфелева башня, — это уродливая, противная затея из железа тотчас же прославилась на весь мир. Тысячи, десятки тысяч людей уже из глубокой дали своих стран восхищались ею, а приехав в Париж, первым делом спешили полюбоваться на безобразное чудище и вскарабкаться на его террасы. Но все, что было художественного в Париже и Европе, с ненавистью и отвращением смотрело на башню, и Мопассан уехал из Франции вон, чтобы только от нее избавиться и долее не терпеть ее презренного кошмара. И, однакож, все это зло было не так велико, как то зло, что для перезванивания о новой художественной гадости, всем столько драгоценной, было тогда же выдумано в Париже и пущено на весь свет новое слово. Это слово было: „Le clou de l'exposition“ (гвоздь выставки). Это нелепое слово было еще нелепее самой Эйфелевой башни, но оно оказалось аппетитным и любезным для большинства, и с тех пор нет от него отбоя. Обрадовалась толпа, и твердит его вот уже целых десять лет. Десять лет! Мало это? Чего-чего только не перешло и не случилось в эти десять лет? Великие люди оказывались вдруг маленькими, маленькие — великими, нации роняли себя собственными же руками с пьедесталов, другие собственными же руками карабкались на крутизны, цеплялись зубами и все-таки падали под ударами кнутов, торжественные гимны раздавались рядом со скрежущими проклятиями, горькие слезы лились рядом со светлыми радостями, чего-чего только не перебывало и не сменилось, а банальное слово из Парижа все продолжает развеваться над миром, как благодатное знамя какое-то, и ласкать взгляды и вкусы толпы.
Пойдите на ту сторону Невы, между Дворцовым и Николаевским мостами, войдите в залы Академии художеств и послушайте тамошнее жужжание стройных затянутых дамочек, с высокими торчащими в потолок куриными перышками и галкиными крылышками, окиньте взором толпу черных сюртуков, и вы везде услышите раньше и чаще всего: „Le clou! le clou!“ (гвоздь! гвоздь!).
Впрочем, они все, может быть, только повторяют то, что в печати стоит?
О, господи боже мой, неужели на глупое слово износа нет? Неужели на него мало было десяти лет, целых десяти лет? Нет, видно мало. Да хоть бы кто-нибудь растолковал, что даже и в самом-то Париже, нашем главном университете, давно уже бросили, вышвырнули и позабыли то драгоценное словцо!
Но кто же, кто же, однако, оказывается теперь у нас самым clou новой выставки? Справляешься, прислушиваешься — и кто же выходит? О ужас, о срамота — не кто иной, как Семирадский со своей картиной „Христианская Дирцея в цирке Нерона“. Кто бы этого мог ожидать? Этакая картина и — clou!
Петербург все еще г. Семирадским не проучен. Ему все еще мало. Г-н Семирадский еще со времен своего юношества, когда кончал и кончил классы, обыкновенно выставлял свои вещи в Академии художеств. Их бывало немало, и все бьющие в нос, одна другой блестящее и колоритнее. Женщины, не то, что уже всегда раздетые, но уже почти все только кокотки старых и новых времен (других г. Семирадский как будто на свете и не видал), перламутр, сверкающая медь, бронза, материи и сандалии, римские туники, розы и радужные солнечные лучи — вот всегдашнее содержание его картин, часто громадных по размерам, но всегда ничего не стоящих по содержанию и выражению. Нынешний раз г. Семирадский бросил Академию, — может быть, недоволен, зачем мальчики и ученики будут судить и оценивать его посылку, ушел в другие места и к другим людям, может быть, говорил: „Давайте, мы и без тех обойдемся, со мной вы и так процветете наверное, я — сила и слава!“ Ион убавил нынче против прежнего размеры картины, повыкидал вон и перламутры, и бронзу, солнечных лучей также на нынешний раз нет, но из всего этого ничего лучшего не вышло. Даже нет обычных пышущих красок г. Семирадского, а сушь и деревянность фигур нынче выступают еще более обыкновенного. Уж лучше бы, кажется, продолжать попрежнему с перламутром и бронзой, хоть не так скучно было бы!