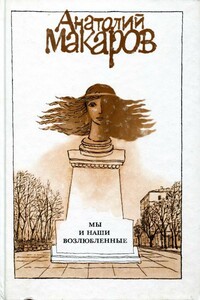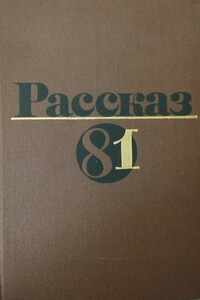Вадим даже обидеться не успел по-настоящему, пережить как следует внезапную свою оставленность, так сразу и впервые все на него надвинулось и навалилось: бесплацкартный вагон длинного полупассажирского, полутоварного поезда, долгий путь с песнями, с выписками, с дружбою до гроба, с пестрыми, грязными, взбудораженными станциями, словно пребывающими по-прежнему в поре военных эвакуаций и беженства, с неожиданными домашними обедами на перронах, с отставаниями и догоняниями, со страшным соседством столыпинского вагона где-то на глухом полустанке. Видение под нулевку остриженных шишковатых низколобых голов, возникшее за тюремной решеткой окон, мучительно долго потом не уходило из его памяти.
В Москву Вадим вернулся в последние дни августа, исхудавший, побуревший от казахстанского нещадного солнца, чуть ослабевший от беспрестанных кишечных недомоганий, и в тот же вечер без звонка побежал к Севке. Там он застал вовсе не известную ему компанию девушек и парней, веселых, романтичных, празднично загорелых, все они только что приехали из Коктебеля. То, что их переполняло теперь, не было просто бурными, наперебой воспоминаниями о беззаботных днях, нет, тут давало себя знать нечто иное, некая совместная счастливая приобщенность к чему-то небудничному, торжественному, прекрасному. То ли к тайне, то ли к братству, то ли к образу жизни. Севка, как всегда после знакомства с новой для себя средой, ощущал себя не просто ее старожилом, но как бы хранителем сокровенных ее заветов. Будто о своем хорошем знакомом, говорил о Максе, о покойном Волошине, так надо понимать, язвительнее, чем обычно, отзывался о последних журнальных новинках, а уж при именах популярных поэтов, еще недавно им ценимых, улыбался с презрительным снисхождением. С необычайным воодушевлением, вдохновившись стаканом шампанского — оцени, дурак, это же настоящий «Новый свет»! — Севка декламировал Гумилева: «Чья не пылью обтрепанных хартий, солью моря пропитана грудь…» Чеканная фразировка свидетельствовала о том, что свою собственную загорелую грудь Севка тоже не без гордости ощущает пропитанной солью карадагских бухт.
Вадим попытался заговорить с ним о формальностях перехода на дневное, как-никак до начала учебного года оставалось всего лишь два дня, Севку напоминание о делах не выбило из состояния блаженной эйфории.
— Да, да, надо будет туда зайти, — ответил он как-то неопределенно и вновь окунулся в стихию возбуждавших его строк: «Или бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвет пистолет…»
Рано утром с чувством сосущей тревоги Вадим прибежал на родной и в то же время не утративший для него некоей официальной отчужденности факультет, на трясущихся ногах переступил порог учебной части и вместо былых приветливых и радушных лиц — как же, круглый отличник — встретил чиновный холодок и подозрительную уклончивость.
Ему сказали, что вопрос о его переводе еще не рассматривался, деканат был загружен более неотложными проблемами, надо же понимать, что события, которыми живет страна, требуют некоторого изменения учебных программ и перестройки научного процесса…
И при этом отводили глаза, совсем как Севка, декламирующий железные строфы «Капитанов».
— Но ведь первое сентября — послезавтра, — пролепетал Вадим, чувствуя себя настырным до дерзости.
На это ему ответили, что лично его судьба не единственная, которая требует рассмотрения. Наивно было бы так думать, он не один такой. Между прочим, некоторые судьбы тоже требуют участия.
Вадим на мгновение самолюбиво оскорбился, вспомнив, как всего два месяца назад в этом же казенном помещении дивились его уникальности — как же, единственный на все вечернее отделение круглый отличник, да еще едет с «дневниками» на целину, — в ту же почти секунду устыдился своего эгоизма, ведь договаривались же они с Севкой не добиваться друг перед другом никаких преимуществ.
Тут же из телефонной будки возле университетских ворот Вадим позвонил Севке. Соседка ответила, что его нет дома. Он набрал Иннин номер, там никто не ответил.
Бессознательно Вадим побрел по направлению к ее дому. Один ее вид мог теперь успокоить, один взгляд ее вздернутых к вискам глаз внушал ему желание бороться, пробиваться, что было сил карабкаться вверх.