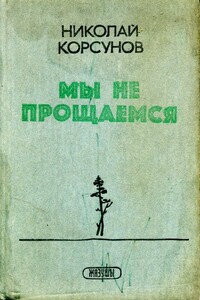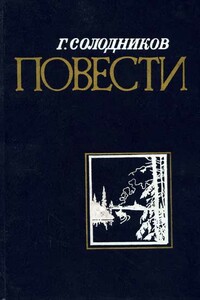А говорил фюрер о тысячелетнем рейхе, об историческом предначертании и задачах германской нации, о миссии ее интеллигенции, цвет которой собрался в этом зале…
Макс видел завороженные, устремленные на него глаза Шмидтов-старших и удивлялся себе: до чего красиво врет! Верят? Ну и прекрасно!
Внезапно в эту увлекательную тишину, сопровождавшую эмоциональный рассказ Макса, врезался надрывный, плачущий вой сирены воздушной тревоги.
— Спокойно! — рявкнул папаша Шмидт, за руку хватая вскочившую жену. — Хельга, выключи свет… Пойдемте к окну. Вот так. Потрясающее зрелище! — Он громко отрыгнул. — Душа с богом разговаривает!
Щелкнул выключатель. В темноте папаша Шмидт раздвинул на окне шторы, поднял жалюзи, распахнул створки высокого окна. В гостиную хлынул свежий влажный воздух.
В лужах ночной улицы покачивались мелкие звездочки. Желтой тряпкой зацепилась за антенну на соседней крыше луна. Вдалеке прожекторы расклинили небо. Надрывались сирены, в тихие промежутки доносилось торопливое татаканье автоматических зениток. Иногда где-то на далеких подступах к городу рвались бомбы. Однажды тряхнуло пол под ногами, в гостиной слабо качнуло зазвеневшую подвесками люстру, и папаша Шмидт засмеялся:
— Англичанина сбили! Люблю смотреть в окно, когда сирены воют, пушки стреляют… Воодушевляет. Да. Недаром Герман сказал: называйте меня Майером, а не Герингом, если хоть одна бомба упадет на Берлин! Наши асы не допустят…
— Где наш Ральф? — тихо вздохнула фрау Марта, глядя поверх мрачных крыш, над которыми продолжали метаться лучи прожекторов, стригущие осеннее небо.
Никто не отозвался на вздох, Макс почувствовал, как прижалась к нему Хельга. А папаша Шмидт усиленно засопел, словно его обсчитали в лавке. Ральф служил где-то в Польше, но писем не присылал уже месяца три. Он и раньше писал лишь Хельге. Над последним его письмом она очень смеялась: «Понимаешь, Макс, он так и пишет: «У ворот парка прибита табличка: «Собакам и полякам вход воспрещен!» Макс догадывался, что пером Ральфа водило отнюдь не чувство юмора. Схожее Ральф прочитал бы и в Берлине: у входа в Тиргартен целое лето висела табличка: «Евреям вход запрещен!»
Ральф у Шмидтов оригинал, свихнувшийся, как считает сам папаша. Еще в тридцать восьмом году ушел из дому — прознал, что в «хрустальную ночь» отец был одним из активнейших погромщиков. Работал на газоперегонном заводе, жил в убогой каморке и конечно же, по мнению Шмидта-старшего, якшался с недобитыми коммунистами и евреями. Поэтому папаша пустил в ход свои связи, и Ральфа досрочно призвали в армию. «Там ему мозги прочистят! Снова немцем станет. Да. Вот так…»
Прозвучал отбой воздушной тревоги. В темноте улиц разом вспыхнули огни фонарей, магазинных витрин и ресторанов. Откуда-то зазвучала торжественная медь фанфар. А из раскрытого окна соседней квартиры грянул хриплый бас:
Дрожат одряхлевшие кости
Земли перед боем святым!
Боязнь и сомненья отбросьте —
На приступ! И мы победим!
К басу подхалимски прилип, потом взвился выше и звонче необычайно тонкий, как у кастрата, тенор:
Нет цели святей и желанней!
В осколки весь мир разобьем!
Сегодня мы правим Германией,
А завтра всю землю возьмем!..
Макс распрощался со Шмидтами.
— Не сердись на моих родителей, — просительно шептала Хельга внизу, в подъезде. Она прятала руки под его пальто, под теплыми подмышками, щекой прижималась к груди и заглядывала в глаза. — Не сердись. Они очень старомодные.
— Не сказал бы! — насильно улыбнулся Макс. — Не сказал бы… Как ты чувствуешь себя в этой квартире?
— Как себя чувствую? — в недоумении поиграла бровями Хельга. — Прекрасно. У меня отдельная комната…
Макс с непонятной пристальностью смотрел на тусклую лампочку над входом. Заговорил с остановками:
— А у тебя не бывает такого ощущения… ну будто из угла на тебя смотрят глаза Иисуса?
— Иисуса?
— Да… Он же был евреем… А в вашей квартире… евреи жили…
Хельга засмеялась сердитым деревянным смехом:
— Я понимаю: ты художник, у тебя воображение! Может быть, немного больное, но — воображение… А кто распял Иисуса? Евреи! — Она обняла его за шею. — Выкинь ты пустяки из своей головки!