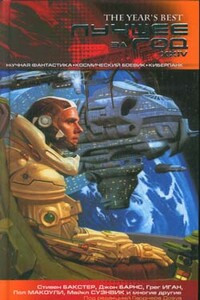— Не просто в порядке, — продолжала Джулия. — Все великолепно. У меня в мозгу имеется информация, позволяющая переписать свой геном.
Слова возникали в воздухе, как пузыри на картинках комиксов.
— Ты же сама говорила, что такое ненадолго, — напомнила Констанс.
— Времени хватит, — возразила Джулия. Поднявшись, она обняла Констанс, а потом и Энди. — Время есть. Его достаточно. Моя последняя подпрограмма получилась больше меня самой. Слишком велика, чтобы загрузиться обратно, и слишком занята. Мне нравится возможность поменять тело.
— На время.
— Верно, на время, — вздохнула Джулия. — Знаешь, никто никого не хочет обидеть. Но как бы я ни старалась, мне кажется, станция скоро станет неподходящим местом для людей.
— И что нам делать? — спросил Энди.
— Вы могли бы присоединиться ко мне, — предложила Джулия. — Вы ничего не потеряете. Миллионы потомков ваших подпрограмм уже существуют в системе. В виртуальных пространствах, в новых телах, в машинах. Вы — уже история. — Она ухмыльнулась, на миг вновь став прежней. — В обоих смыслах.
— Тогда зачем, — спросила Констанс, — если мы и так уже это сделали?
— Вы ничего не делали. В этом вся разница.
Теперь Констанс понимала, как вышло, что ее мать создала подпрограмму с тягой к выживанию. Возможно, она сама не признавалась в том, как ее манят возможности, которые она старалась предотвратить своей работой: желание вечного существования, усиленное и без того долгим веком, и самолюбие, такое громадное, что ей — и, наверно, ее подпрограммам — трудно было признать собой даже другие версии себя. Констанс задумалась, много ли черт характера матери передалось ей по наследству: насколько она в этом отношении — дочь своей матери. Возможно, победа над старостью — так дорого добытая и так дешево покупавшаяся теперь — выделилась и отделилась от истинного бессмертия — бессмертия генов и мемов,[4] растущих детей, распространяющихся идей, созданных творений и совершенных дел.
Но Энди думал о другом.
— Вы хотите сказать, что моя подпрограмма переживет выгорание?
— Да, — сказала Джулия, будто бы делясь с ним хорошей новостью.
— Ох, ужас! Ужас! Я и так едва терплю жизнь среди всех этих стариков!
Он бросил на Констанс панический взгляд. Такой взгляд она видела у собственного отражения в окне-экране, когда пыталась справиться с приступом клаустрофобии в первый день на станции.
— Тогда, — сказала Джулия, — тебе надо уходить. А ты? — обратилась она к Констанс.
— То же самое.
— Знаю, — кивнула Джулия. — У меня имеется отличная теория мышления. Я вижу вас обоих насквозь.
Констанс хотела сказать в ответ что-нибудь обидное, потом поняла, что это бессмысленно, и решила промолчать. Она взяла Джулию за руку.
— За то, чем ты была, — сказала она, — даже если тебя не было.
Джулия хлопнула ее по плечу.
— За то, чем ты будешь, — сказала она. — А теперь уходите.
— До свидания, мама, — сказала Констанс, и они с Энди вышли, оставив дверь открытой и не оглядываясь.
— Багаж? — спросил андроид, заведовавший Длинной Трубой. Он жил в фарадеевской клетке, и к его коробке был подключен «нортон» с ручным управлением. Андроид никуда не собирался.
— Только вот это. — Констанс показала плоский металлический прямоугольник величиной с бизнес-карту.
— Содержимое?
— Произведения искусства.
Они с Энди преодолели половину светового города на полусветовой скорости. В промежутках свободного полета — в челноке от Внутренней Станции с Короткой Трубой к игле корабля, снующего от дальнего конца Короткой Трубы Внутренней Станции номер четыре к тормозному порту Короткой Трубы Длинной Станции номер один — они просматривали и записывали все, что могли, из мощно нарастающего потока информации, излучавшегося облаком полисов. Оно больше не было золотисто-зеленым, а переливалось всеми цветами радуги, отражая и дробя пожелания своих обитателей, все увеличивавшихся в числе и все дальше уходивших от человека. Беглецы сохранили несколько научных теорий и технических изобретений, но гораздо ценнее и более доступным пониманию оказалось искусство: музыка, картины и дизайн, созданные потомками человека, проникшими в такие тонкости человеческого мышления, что для них величайшие творения художников и композиторов человеческой эпохи стали только начальной точкой, первичным элементом, как простая линия или отдельная нота. Констанс сознавала, что в ее руках столько стимулов и вдохновения, что она, где бы ни оказалась, сумеет запустить новый Ренессанс.