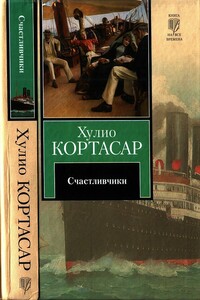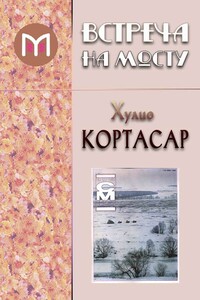Рауль пропустил Фелипе мимо себя и пошел следом. Они миновали первую каюту, коридор с фиолетовой лампой. И когда подошли к трапу, Фелипе вдруг схватился за перила, круто повернулся и медленно осел на первую ступеньку.
— Дай мне пройти, — сказал Рауль, застыв на месте.
Фелипе закрыл лицо руками и зарыдал. Он казался совсем маленьким, ребенком, который поранился и не может скрыть это. Рауль взялся за перила и, подтянувшись, перепрыгнул на верхние ступеньки. Он смутно припомнил голубого орла, словно это помогало побороть тошноту, добраться до каюты. Голубой орел — символ. Да, орел — это символ. Он совсем не думал о трапе, ведущем на корму. Голубой орел, да, верно, чистейшая мифология, заключенная в digest, достойном веков. Орел и Зевс, ну конечно же, это символ — голубой орел.
Н
Еще раз, возможно последний, но кто может утверждать это, здесь все так неясно, Персио предчувствует, что час соединения закрыл справедливый дом, обрядил кукол в справедливые одежды. Прерывисто дыша, один в своей каюте или на мостике, он видит, как перед его блуждающим взором на фоне ночи вырисовываются марионетки, которые поправляют парики, продолжают прерванный вечер. Завершение, достижение: самые мрачные слова капают, точно капли из его глаз, дрожат на кончиках губ. Он думает: «Хорхе», и огромная зеленая слеза сползает, миллиметр за миллиметром, цепляясь за волосы бороды, и наконец превращается в горькую соль, которую невозможно выплюнуть целую вечность. И ему уже неважно предвидеть то, что свершится на корме, что откроется для другой ночи, для других лиц, как будет взломана задраенная дверь. В миг мимолетного тщеславия он возомнил себя всемогущим, ясновидящим, призванным разгадывать тайны, и его вдруг поразила мрачная уверенность в том, что существует некая центральная точка, из которой каждую диссонирующую частицу можно увидеть, как спицу в колесе…
Огромная гитара странно замолкла в вышине, «Малькольм» качается на резиновом море, под меловым ветром. И поскольку он уже не предвидит ничего насчет кормы и его воля скована учащенным дыханием Хорхе, отчаянием, исказившим лицо его матери, он уступает почти неразличимому настоящему, где всего лишь несколько метров между мостиком и бортом парохода, а дальше море без звезд, и, возможно, именно поэтому Персио утверждается в сознании, что корма — это просто (хотя никто так не считает) его мрачное воображение, его судорожный застывший порыв, его самая неотложная и жалкая задача. Клетки с обезьянами, львы, кружащие по палубе, пампа, брошенная ничком, головокружительный рост коиуэ, все это взрывается и застывает в марионетках, которые уже напялили свои маски и парики, в фигурах танца, которые на любом корабле повторяют линии и окружности человека с гитарой Пикассо (написанного с Аполлинера), но это и поезда, отбывающие и прибывающие на португальские станции, среди бесчисленного множества других, происходящих одновременно событий, среди ужасающей беспредельности одновременностей и совпадений и перекрещиваний и разрывов, и все это, не подчиненное разуму, рушится в космическое небытие, и все это, не подчиненное разуму, называется абсурдом концепций, иллюзией, называется «из-за деревьев не видеть леса», «каплей в море», женщиной взамен бегства в абсолют. Но марионетки уже собраны и танцуют перед Персио, разодетые, разукрашенные, некоторые из них чиновники, в прошлом решавшие важные дела, другие носят имена людей, плывущих на пароходе, и Персио входит в их число, совершенно лысый шумер, служитель зиккурата, корректор у Крафта, друг больного ребенка. Как же ему не вспоминать в час, когда все насильственно стремится к разрешению, когда руки уже разыскивают револьвер в ящике, когда кто-то, лежа ничком, плачет в каюте, как же ему не вспомнить, — ему, знатоку всех деревянных людей из жалкого рода изначальных марионеток? Танец на палубе очень неуклюжий, словно это танцуют овощи или детали машин; грубо сколоченные из дерева, они скрипят и болтаются при каждом шаге, здесь все из дерева: и лица, и маски, и ноги, и половые органы, и тяжелые сердца, где все, что оседает, свертывается и густеет, — внутренности, которые жадно накапливают густую субстанцию, руки, которые крепко держат другие руки, чтобы помочь тяжелому телу закончить вращение. Сломленный усталостью и отчаянием, пресыщенный ясновидением, которое не принесло ему ничего, кроме еще одного возвращения и еще одного падения, присутствует Персио при этом танце деревянных марионеток, на первом акте американской судьбы. Сейчас их покинут недовольные божества, сейчас псы, посуда и даже мельничные жернова восстанут против тупых, обреченных кукол-големов, упадут на них, чтобы раздробить их на куски, и танец завершится смертью, фигуры ощетинятся зубами, когтями и волосами; под тем же безразличным небом начнут падать замертво потерянные образы, и здесь, в этом настоящем, где возвышается и сам Персио, размышляющий о больном мальчике и о смутном раннем утре, танец продолжит свои стилизованные фигуры, ногти покроются лаком, ноги облачатся в брюки, желудки узнают паштет из гусиной печени и мюскад, надушенные и гибкие тела будут танцевать, сами не ведая, что танцуют деревянный танец, и что все это лишь выжидательный бунт, и что американский мир — это всего лишь ловкий обман; но тайно работают муравьи, броненосцы, климат с сырыми присосками, кондоры с гнилыми кусками мяса, касики, которых народ любит и чтит, женщины, которые ткут всю жизнь в своих хижинах, банковские служащие, футболисты, высокомерные инженеры и поэты, воображающие себя выдающимися и трагичными, печальные писатели, пишущие печальные произведения, и города, запачканные безразличием. Закрыв глаза, в которые корма вонзается, точно шип, Персио чувствует, как прошлое, бесполезно противоречивое и принаряженное, обнимает настоящее, которое передразнивает его, как обезьяны передразнивают деревянных людей, как их передразнивают люди из плоти и крови. Все, что должно случиться, будет таким же иллюзорным, и освобождение судеб от оков завершится пышным расцветом благоприятных или противоборствующих чувств и одинаково сомнительных поражений и побед. Бездонная двусмысленность, неизлечимая нерешительность в самом центре решений: в некоем маленьком мирке, подобном другим мирам, другим поездам, другим гитаристам, другим носам и кормам кораблей, — в маленьком мирке, лишенном богов и людей, на рассвете танцуют марионетки. Почему ты плачешь, Персио, почему плачешь? Ведь из такого материала порой зажигается огонь, из такой нищеты рождается песня и, когда марионетки съедят последнюю щепотку своего пепла, возможно, родится человек. Возможно, он уже родился, но ты его не видишь.