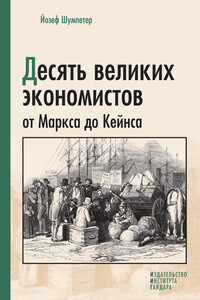В действительности же не существовало и не существует никаких свидетельств того, что беспокойство относительно налогов и возросших издержек новых мер регулирования играет в торможении экономики существенную роль. Калецки утверждал: подобные заявления не возымеют действия, если общественность поймет, что кейнсианская политика способна создавать рабочие места. Таким образом, мы имеем дело с особой неприязнью к государственной политике по непосредственному созданию новых рабочих мест — помимо общего страха, что идеи Кейнса могут сделать законным вмешательство государства в экономику.
Соединив эти мотивы, можно увидеть, почему авторы и институты, прочно связанные с верхами, имеющими преимущество при распределении доходов, неизменно враждебны к постулатам кейнсианства. За 75 лет, прошедших после выхода в свет «Общей теории» Кейнса, этот подход не изменился. Изменились лишь доходы (богатые стали еще богаче), а следовательно, и влияние больших денег на политику. Сегодня консерваторы сдвинулись далеко вправо даже по сравнению с Милтоном Фридманом, который, по крайней мере, признавал, что монетаристская политика может быть эффективным инструментом стабилизации экономики. Взгляды, считавшиеся 40 лет назад радикальными, сегодня являются частью официальной доктрины одной из двух главных политических партий США.
Более деликатный вопрос: в какой степени сильная заинтересованность 1 %, а если точнее, 0,1 % самых богатых влияет на дискуссию среди ученых-экономистов? Вне всяких сомнений, это влияние должно быть. Предпочтения спонсоров университетов, доступность стипендий, выгодные консалтинговые контракты и так далее — все это поощряет экономистов не просто отворачиваться от кейнсианских идей, но и забывать большую часть того, что было усвоено в 30-х и 40-х годах прошлого столетия.
Безусловно, влияние денег не зашло бы так далеко, не способствуй этому вышедшая из-под контроля научная социология. Абсурдные в своей основе представления стали догмой при анализе как финансов, так и макроэкономики не без участия социологов.
В 30-х годах ХХ века финансовые рынки не пользовались особым уважением — по очевидным причинам. Кейнс уподоблял их «тем газетным конкурсам, в которых участникам предлагается выбрать фотографии 6 самых хорошеньких девушек из 100 снимков, и приз получит тот, чей выбор будет наиболее близко соответствовать среднему вкусу всех участников состязания. Таким образом, каждый из соревнующихся должен выбрать не те лица, которые он лично находит наиболее симпатичными, а те, которые, как он полагает, скорее всего удовлетворяют вкусам других».
Кейнс считал очень неудачной идеей позволить таким рынкам, в которых спекулянты стараются перещеголять друг друга, диктовать важные решения бизнесу: «Когда расширение производственного капитала в стране становится побочным продуктом деятельности игорного дома, трудно ожидать хороших результатов» [26].
Примерно к 1970 году изучением финансовых рынков, по всей видимости, стали заниматься люди, похожие на вольтеровского доктора Панглосса, уверявшего, что мы живем в лучшем из всех возможных миров. Разговоры об иррациональности инвесторов, мыльных пузырях финансового рынка, деструктивной спекуляции практически исчезли из научного дискурса. Доминировала гипотеза эффективных рынков, которую продвигал Юджин Фама из Чикагского университета. Она заключается в рациональности инвесторов и отсутствии информационного дисбаланса. (Например, стоимость акций компании всегда точно отражает ценность этой компании, с учетом доступных сведений о прибыли, перспективах бизнеса и т. д.) В 80-х годах ХХ века экономисты, в частности Майкл Дженсен из Гарвардской школы бизнеса, утверждали, что, поскольку финансовые рынки всегда устанавливают правильные цены, то лучшее, что могут сделать руководители корпораций — не только для себя, но и для экономики, — это максимизировать стоимость акций. Другими словами, финансисты свято верили: мы должны отдать развитие экономической структуры государства во власть того, что Кейнс называл игорным домом.