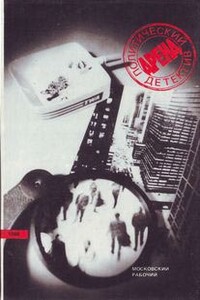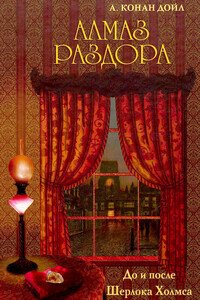- Зря ты институт бросил. - Настурция посерьезнела. - Излагаешь заслушаешься.
- Изложенцами земля полна, - возразил Мордасов, - рукастые повывелись, и честность - редкая птица краснокнижная, навроде дрофы или американского журавля. Кругом жулездные или плоть от плоти их. Мы-то с тобой жертвы, у нас выхода не было, а у них был. - Мордасов кивнул на площадь, будто Шпындро во всем величии уже высился там. - У них был! А они монету клепают, мирок себе отгородили, затхлый, но для прочих запретный.
- Завидуешь? - Настурция сжала виски, пригнула голову к столу: чего зря бередить? Не изменишь...
Мордасов поперхнулся:
- Зря ты про зависть... У академиков тож свой мирок, но те мне завистью глаза не застят. У них головы, как шкаф, идеями ломятся, мозговитые, я-то свой шесток знаю, им не ровня. А жулездные чем от меня отличны? В грудь бьют и спекулируют - верой, не барахлом! - почище моего, у них барахло от веры производная. Знаешь, что это - производная?
Настурция честно призналась, что нет, после восьмого сбежала из школы и сразу в комиссионный, а тут производная...
Мордасов умолк. И чего его так бесит Шпындро? Дался ему, раздражителем засел в печенках. Нежели всякие-прочие судьбы определяющие цену ему, Шпындро то есть, не знают? Отчего Колодец - властелин площади мечен неверием окружающих от рождения, нет ему очищения, всяк при случае шпыняет, если деньгой не заткнешь, а за глаза? Поливают почем зря. Разве он не знает, как об их брате молва затачивается, что бритва опасная правится о ремень. Ну его к лешим, Шпындра. Мордасову мир не переделать, он свои банки с чаем продолжит набивать, может с дамой, отвечающей тонким движением души, судьба сведет, так и проживут безбедно, а там - нырь! - к бабуле под памятник, что поставит благодарный внук.
Воскресными вечерами квартира Шпындро наполнялась тенями и шорохами. Аркадьева зажигала свечи, тихо баюкала музыка, супруги думали о своем.
Наташа Аркадьева упоенно калькулировала доходы, не зная, что быть может именно эта страсть роднила ее с Крупняковым. Шпындро выкладывал мысленно же рядком все обстоятельства грядущей поездки, группировал их, тасовал, переставлял, как иные любят переставлять мебель в поисках совершенства компановки, передвигал, окидывал единым взглядом то всю ситуацию, то самый тревожный ее фрагмент.
После красного вина голова тяжелела, тянуло в дрему, возникало чувство, смахивающее на неудовлетворенность, этакое гаденькое сомнение в себе и своих успехах: гнать его в три шеи Шпындро почитал святой обязанностью вроде истребления тараканов, один-два завелись, вовремя не уничтожил, век не избавишься.
Зря допил последний бокал. Щипало веки. Профиль жены на фоне штор зловещ, губы поджаты в издевке, тело напряжено в постоянной готовности к истерическому спектаклю. Шпындро вспомнил о дочери: устроена, слава богу, тож за выездным, из новой генерации, вовсе бестыдные, мы такой алчностью не выделялись, маскировались; нововыездные совсем уж без руля и ветрил...
Наташа Аркадьева случайно в этот же миг обратилась к дочери, с чувством человека, знающего, что беды не миновать, обескураженно смирилась, что вскоре станет бабкой. Бабкой! Не такой, как бабка неизвестного ей почти Мордасова, умершая прошлой ночью, но уже переведет ее время в категорию людей, едущих к последней станции.
Напольные часы отбили семь вечера, гул долго плавал, путаясь в ножках горок, отталкиваясь от диванов и секретеров красного дерева, пока не затих в углах, испещренных бликами неверного пламени свечей.
Шпындро мял газету, складывал, разглаживал, пытаясь прочесть хоть одну заметку, хоть абзац или строку - не получалось. Досада неизвестного происхождения мешала сосредоточиться. Похоже досада произрастала из пустоты внутри, от холода не низкотемпературного, а от холода ввиду отсутствия движений души. Ничего не хотелось, возникало подозрение в обделенности. У каждого свое таилось - чужим ни глянуть, ни тронуть. У Мордасова - бабка; у Филина - дочери, У Настурции - мечты на устройство жизни, нежные, как подснежники: у Наташи Аркадьевой - любовники. Только у Шпындро не имелось тайного стержня, к которому крепилась бы вся его жизнь, выяснялось: армирован он единственно выездом и возможностями, открывающимися при этом. Лиши его синего паспорта навечно, дай красный, как у всех и... и... Уроки словесности в школе, преподавательница из бывших, старушонка с мягкой плавной речью, вовсе не такой, что в ходу сейчас, такая програссировала бы: и... адовы муки покажутся... и тут Шпындро присовокупил от себя... щекотанием пяток.