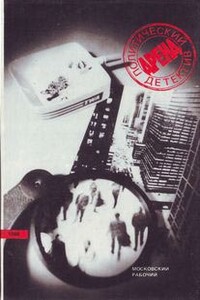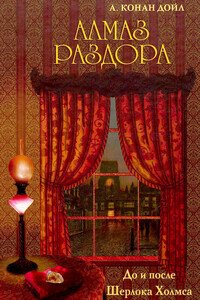- Что с тобой? - Шпындро привстал, изображая участие, бледность жены и впрямь поразила.
- Голова закружилась.
Шпындро за миг до дурноты перехватил взгляд жены, направленный на пастушка, обманула, не двести пятьдесят и не триста, наверное, все пятьсот, всегда лжет, а потом сама переживает переплату; так ей и надо, в другое время Шпындро вскипел бы, а сейчас только болезнь Филина занимала его, двумя сотнями больше двумя меньше... рушилось предприятие на много десятков тысяч и пастушок, пусть и приобретенный по неслыханной цене, не мог его уязвить, испоганить настроение больше, чем хворь, свалившая начальника.
Крупняков в халате возлежал на диване, середину высокой спинки венчал резной дворянский герб. Крупняков любил приврать о графском происхождении, о белых офицерах в роду, о растоптанной и разбросанной по городам и весям семье. Врал вдохновенно, пользуясь тягостностью, а чаще невозможностью для большинства порядочных людей в глаза осадить лжеца, издевки жулья не трогали - не ленись припудривать себя, не ленись курить фимиам, повтори ложь раз, два, сотню и, устав отбиваться, ее примут.
Зазвонил телефон. Крупняков трубки не поднял, купался в воспоминаниях о вчерашней встрече; не напрасно заказал кабак, не напрасно угрохал субботу, пренебрег священным ритуалом бани; все отлично, если б не утрата пастушка... Как он не нашелся, маху дал, слабину выказал, к старости пошло?.. Пастушок сам по себе мелочь, но факт тревожил - его переигрывали на его же поле. А с другой стороны, сколько же он выкачал из четы, особенно в начале их набегов, пока еще не заматерели лихие наездники-выездники, да и сейчас Крупняков считался первым консультантом семьи Шпындро в вопросах ценообразования, во всем, что касалось серьезного товара - ни каких-то там плюющих музыкой железяк, а вещей на века, не утрачивающих своей ценности и притягательности для человека никогда.
Пастушка можно рассматривать, как вложение в предстоящую поездку авансированные платежи - бескорыстного старого друга, к тому же не обойденного прелестями увядающей - увы! вчера убедился в печальном - жены. Мечется бедняжка, синдром закрывающихся перед носом дверей. Время безжалостно кромсает женщин, особенно достается недавним львицам, не знавшим отказа, с мужчинами время обходительнее, может зная, что самого времени мужчинам отпущено меньше.
Крупняков достал блокнот-портсигар с серебряным карандашом, углубился в дебет и кредит операции: только цифры и вертикальные линии, отделяющие приход от расхода - ни слова или имени, за каждой цифрой эпопея: люди, переговоры, лица, темпераменты, встречи в ресторанах, шепоты у стоек баров; объем работ огромен и, судя по цифрам, возрастает день ото дня.
Может позвонить... ей? Как ни в чем не бывало, со Шпындро поболтать о том о сем. Надут муженек, приподнят на постамент выезда и невдомек бедолаге, что скука благополучных семей непереносима, иногда калечит более нищеты и тогда на выручку приходит Крупняков.
Крупняков отложил блокнот, блаженно вытянулся на диване; любил побаловать себя дневным сном да и ночной не подводил. Холеная рука подоткнула полы халата, натянула плед и через минуту храп долбил обивку дивана, простеганную обтянутыми узорным бархатом пуговицами.
Пионер Гриша погибал мужественно. Стручок отбивал куски и Мордасов вздрагивал каждый раз, будто вот-вот брызнет кровь. Гипсовая голова умирала медленно, как все отжившее, замшелое, цепляясь - единственно волей, руки-то остались на площади - изо всех сил за возможность еще взирать на суетный люд, окидывать постамент, площадь взором гладких глаз без зрачков. Голова агонией отталкивала и одновременно взывала к жалости.
Стручок увлекся, кепка сползла набекрень. Если голова заваливалась вбок, Стручок непременно поправлял ее, ставил посреди бетонной плиты и продолжал свой очистительный труд: похоже все беды, обрушившиеся на это существо, отзывались яростью похмельных ударов.
Мордасов отвернулся; если бы в школе его загнали в угол вопросом, что вечно на земле? Не задумываясь, ответил бы: пионер на площади. Тогда весь мир Мордасова дальше границ городка, скорее его центра и станции, не простирался, и ребенку весельчак Гриша с горном казался памятником не мальчику доброму и деятельному, - а может злому и с ленцой, а именно воплощением вечности, потому что люди вокруг то попадали в тюрьмы, то переезжали на другие места жительства, то умирали и только бронзовый пионер оставался порукой незыблемости, даже тогда, когда две безобразные гипсовые вазы для анютиных глазок при входе на перрон исчезли в одну из зимних ночей, окатив всех недоумением: кому понадобилось?