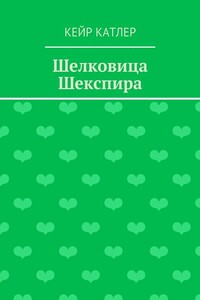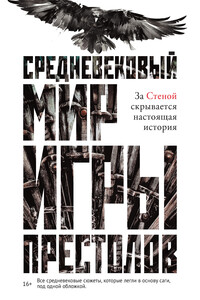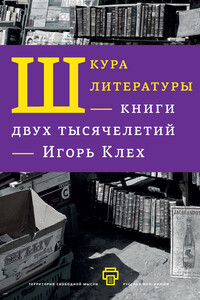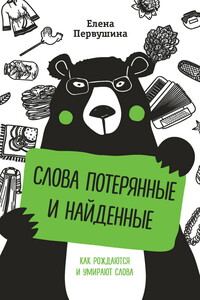Введение в теоретическую лингвистику - страница 157
7.1.4. ЛОГИКА И ГРАММАТИКА
Заключая данный раздел, следует сказать несколько слов об общем влиянии «аристотелевской» логики на традиционную грамматическую теорию. Философы часто высказывают суждение, что аристотелевская теория «категорий», особенно его разграничение между «субстанцией» и «акциденцией», является просто отражением
Грамматической структуры греческого языка и что если бы Аристотель говорил на языке с существенно иной грамматической структурой, то он установил бы совершенно другой набор «категорий» и, возможно, другую систему логики. Грамматисты, с другой стороны, склонны утверждать, что некоторые из разграничений, проводимых в традиционной грамматике, носят чисто «логический» характер (например, разграничение между собственными и нарицательными именами существительными) и не могут быть подтверждены фактами греческого и латинского языков [52]. Сосуществование этих двух точек зрения наводит на мысль о том, что соотношение традиционной грамматики и «аристотелевской» логики, вероятно, гораздо сложнее, чем обычно считают. Именно так и обстоит дело в действительности. Как будет показано в настоящей главе, недавние результаты в области синтаксической теории (в частности, разграничение «глубинной» и «поверхностной» структуры; ср. § 6.6.1) могут помочь нам в определении того, до какой степени согласуются друг с другом «категории» логики и грамматики.
7.1.5. ПЕРВИЧНЫЕ,ВТОРИЧНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ
В целях удобства при обращении с терминологией в последующих разделах мы будем называть «части речи» первичными грамматическими категориями, а такие понятия, как время, наклонение, падеж и т. д., — вторичными грамматическими категориями. Традиционные синтаксические понятия «субъекта», «предиката», «объекта» и т. д. будут именоваться функциональными категориями. По причинам, которые сейчас будут ясны, мы сначала рассмотрим вторичные грамматические категории.
В большинстве трактовок того явления, которое мы для удобства называем вторичными грамматическими категориями, отводится видное место традиционно выделяемым словоизменительным категориям латинского и греческого языков: числу, роду и падежу для существительного; лицу, времени, наклонению и залогу для глагола. Вспомним, что в традиционных словоизменительных определениях частей речи роль различительного критерия для существительного играл падеж, а для глагола — время (ср. § 1.2.5). В нашем изложении мы будем придерживаться принятой практики, уделяя основное внимание категориям традиционной грамматики. Мы увидим, что, хотя эти категории могут применяться в весьма широких пределах, они нуждаются в переформулировании на базе современной порождающей грамматики, которая первичным считает синтаксис, а словоизменение рассматривает лишь как один из способов уточнения синтаксических отношений в предложении (ср. § 5.4.2).
7.2. ДЕЙКТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ *
7.2.1. ДЕЙКСИС И СИТУАЦИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЯ
Введем теперь понятие дейксиса, к которому мы будем часто обращаться в ходе рассмотрения грамматических категорий. Любое высказывание на естественном языке произносится в конкретном месте и в конкретный момент времени: оно связано с определенной пространственно-временно́й ситуацией. Оно произносится конкретным лицом (говорящим) и адресовано обычно какому-либо другому конкретному лицу (слушающему); будем считать, что говорящий и слушающий в