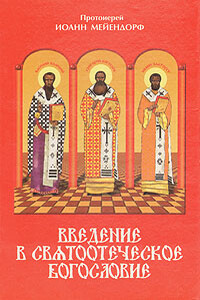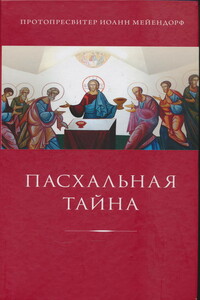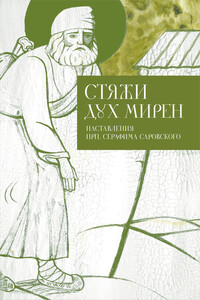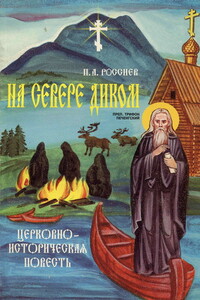Введение в изучение св. Григория Паламы - страница 54
Две антропологии. Если оставить этот интересный спор, завершения которому пока не предвидится, хотя он и затрагивает важнейший момент в отношениях между западным и восточным христианством, и обратиться к влиянию, которое произведения «великого Макария» оказывали на духовную литературу Востока, то мы без труда обнаружим, что, с точки зрения их читателей с V по XV век, они противопоставляют библейские терминологию иантропологию (возможно, со стоическими включениями)—платонической терминологии и идеалистической антропологииЕвагрия. Эти две антропологии скрытым образом присутствуют в истории исихазма, авторов которого можно grosso modo [в первом приближении] подразделить на учеников Евагрия и учеников Макария, при условии, разумеется, что это деление приводится не слишком строго и, в частности, не основывается на терминологии, которая сближает эти две школы, даже когда каждая из них сохраняет свойственный ей характер. Так, термин «сердце», использующийся в Библии для обозначения центра всей психофизической жизни человека, превращается у таких авторов, как Ориген и св. Григорий Нисский, в синоним nous платонизма, тогда как преп. Макарий и его школа, стремясь передать всю полноту библейской концепции и одновременно учитывая широкую распространенность терминологии Евагрия в монашеской среде, напротив, помещают nous в сердце, что позволяет им терминологически согласовать обе системы словоупотребления( [147]). В действительности дело тут шло не только о словах, а о двух антропологиях, Платона и Библии, между которыми, чтобы заложить основы внутренне согласованной духовной жизни, необходимо было сделать выбор. Является ли человек лишь заключенным в материи разумом, стремящимся к освобождению, или же он—психофизическое целое, которому воплотившийся Бог принес спасение? Воздействует ли благодать только на nous, очищенный от всякой «страсти», но лишенный при этом всякой связи с материей, или же весь человек силою купели крещения, в которую он погружается, получает начаток телесного воскресения? Очевидно, мистика Евагрия избрала первую альтернативу и именно поэтому была осуждена. Но раз писания в духе Евагрия все же тайком проникли в христианское предание, необходимо было исправить их в сторону православия, что и сделали Отцы Церкви. Таким образом, несмотря на платонический характер своей системы и терминологии, св. Максим сможет написать: «Человек остается целиком человеком в своей душе и своем теле и благодатью становится целиком Богом в своей душе и своем теле.»( [148]) Это было необходимое догматическое утверждение, проистекавшее у преп. Максима не из философского образования, а из знакомства с Писанием и его религиозного опыта. Сходным образом «чистая молитва» Евагрия, некий вид гносиса, чуждого благочестию, центром которого является Христос, постепенно превратилась в Иисусову молитву, в которой любое духовное достижение связывалось не с познанием безличного Божества, а с живым общением со Спасителем[