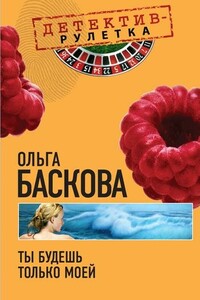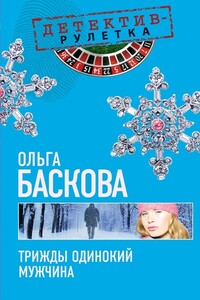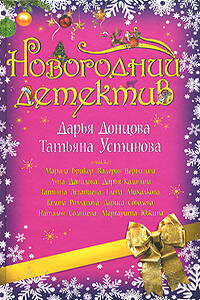– Можно уносить тело.
– Пусть уносят, – распорядился майор и дотронулся до локтя главрежа. – Мы не могли бы с вами поговорить без свидетелей в вашем кабинете?
Ходынский развел руками:
– Отчего же нет? Разумеется, могли бы.
– Тогда, если не возражаете, давайте пройдем к вам, а мои коллеги побеседуют с артистами.
– Не возражаю.
Они пошли по коридору. Навстречу спешили какие-то люди, вероятно, работники театра, с бледными лицами. Одни прошмыгивали мимо Ходынского, а другие хватали его за серый свитер с ромбиками и взволнованно спрашивали:
– Это правда?
Главреж не отвечал. Подойдя к двери, обитой черным дерматином, он вставил ключ в замочную скважину и, распахнув дверь, кивнул Павлу и Константину:
– Проходите и располагайтесь.
Оперативники последовали его совету и отметили про себя, что кабинет главрежа выглядит довольно шикарно. Ходынский сделал совершенно правильно, когда серьезно подошел к интерьеру своей комнаты. Это только для зрителей театр начинается с вешалки. Внутри самого театра законы совсем иные. Здесь каждый знает, как много важных, подчас судьбоносных решений принимается в святая святых – кабинете главного режиссера. Это пространство, по мнению последнего, должно было сочетать в себе непосредственность и изящество храма искусства, аристократизм дипломатической миссии и серьезность генерального штаба. Наверняка Ходынский пригласил известного дизайнера, вдохновленного интерьерами Зимнего дворца, дух которого как нельзя лучше соответствовал поставленной задаче. Кабинет был выдержан в синих и голубых тонах. Потолок украшала тяжелая хрустальная люстра со множеством подвесок. На окнах висели синие бархатные гардины. Оперативники примостились на мягкий диван, а Ходынский сел напротив в кресло с резной полозолоченной спинкой.
– Я предполагаю, какие вопросы вы можете мне задать, – начал он, – и уже готов на них ответить.
– Правда? – удивился Киселев. – Это интересно. Мы вас слушаем.
– Вас наверняка интересует, не было ли мотива у Руденко убивать Бучумова. – Ходынский потер переносицу и нервно дернулся. – Я овечу однозначно: нет. Уж не знаю, почему Валерий не заметил, что кинжал подменен. Однако этому есть объяснение, и я уверен, что он его даст, как только придет в себя. Руденко накануне спектаклей – а их по «Маленьким трагедиям» уже прошло два – не уставал повторять, как он благодарен Роману. Я уже говорил: именно Роман заставил меня дать Валерию главную роль в спектакле. А вообще, у них было мало точек соприкосновения.
– Понятно, – кивнул Киселев. – Тогда, возможно, у вас самого есть предположения, кто мог подменить бутафорский кинжал на настоящий.
– В комнату с реквизитом вход совершенно свободный для работников нашего театра, – продолжал Олег, – практически это мог сделать любой. Но если вы хотите знать, на кого конкретно думаю я… Это вопрос сложный. Не знаю, что и ответить.
Он закусил губу, как бы размышляя про себя, но выражение его лица говорило: у Ходынского действительно имеется подозреваемый.
– Вы сказали «а», – вставил Костя, – говорите и «б». И, ради бога, не считайте, что вы подставляете невиновного человека. По этому делу будет проведено серьезное расследование. Мы все тщательно проверим.
Ходынский наклонил голову:
– Ну, хорошо. Я выскажу свое мнение. Видите ли, – вставил он свое любимое словечко, – актерская среда очень специфична. Все видят актеров в их лучшие часы, переполненных вдохновением и творческим восторгом. На сцене актер – воплощение светлого служения искусству, он дарит зрителям радость. А между тем в самой театральной среде часто процветают такие зависть и ненависть, что не дай бог. Знаете, еще в восемнадцатом – девятнадцатом веках в кареты преуспевающих актрис кидали камни нанятые соперницами оборванцы, а для того, чтобы «зашикать», заглушить свистом и шипением любимца публики, в Англии существовали специальные группы… В нашем театре после моего прихода долгое время все шло довольно хорошо, хотя, конечно, подводных течений избежать нельзя. Были и зависть, и интриги, но все как-то в разумных пределах. А впрочем, как их определить, эти разумные пределы? Начну с того, что мы любим оплевывать, дискредитировать, унижать тех, кого сами же возвеличили. Если же талантливый человек займет высокий пост или чем-нибудь возвысится над общим уровнем, мы все общими усилиями стараемся ударить его по макушке, приговаривая при этом: «Не смей возвышаться, не лезь вперед, выскочка. Оставайся такой же серостью, как и мы». Сколько талантливых и нужных нам людей погибло таким образом. Немногие наперекор всему достигали всеобщего признания и поклонения. Но зато нахалам, которым удается забрать нас в руки, – лафа. Мы будем ворчать про себя и терпеть, так как трудно нам создать единодушие, трудно и боязно свергнуть того, кто нас запугивает. В театрах, за исключением единичных случаев, такое явление проявляется особенно ярко. Борьба за первенство актеров, актрис, режиссеров, ревность к успехам товарищей, деление людей по жалованью и амплуа очень сильно развиты в нашем деле и являются в нем большим злом. Мы прикрываем свое самолюбие, зависть, интриги всевозможными красивыми словами вроде «благородное соревнование». Но сквозь них все время просачиваются ядовитые испарения дурной закулисной актерской зависти и интриги, которые отравляют атмосферу театра. Боясь конкуренции или из мелкой зависти, актерская среда принимает в штыки всех вновь вступающих в их театральную семью. Если они выдерживают испытание – их счастье. Но сколько таких, которые пугаются, теряют веру в себя и гибнут в театрах. В этих случаях актеры уподобляются гимназистам, которые также пропускают сквозь строй каждого новичка, вступающего в школу. Как эта психология близка к звериной! – он говорил взволнованно, однако Киселеву и Скворцову казалось, что Ходынский, как и его подопечные, разыгрывает перед ними очередную роль. – В общем, тут процветал один актер, Виктор Лавровский. Плохого о нем как о специалисте сказать ничего не могу – действительно талантливый. Потом явился Бучумов и перехватил у него пальму первенства. На мой взгляд, главная причина, по которой это случилось, – возраст Лавровского. Когда-то театр ломился от цветов, принесенных поклонницами, готовыми на все ради своего кумира. Но годы шли, кумир старел, но и не думал покидать сцену. Специфика театра связана с танцами и пением, которые все хуже удавались Лавровскому. Иногда он просто бывал смешон и жалок, старенький, седенький, морщины даже гримом уже не замажешь, играющий двадцатилетних героев-любовников и выделывающий антраша плохо повинующимися ногами. Напрасно мы намекали старичку, что пора перейти к другим ролям – он ничего не хотел слышать и страшно сердился. Кроме того, у Лавровского появилась молоденькая любовница, которая увела его от стареющей жены. Актер был готов на любые траты ради предмета своей любви. Мне кажется, ему была не столько нужна сама любовница, сколько хотелось найти лекарство от старости и блистать на сцене, чтобы по-прежнему чувствовать себя молодым и сильным… Разумеется, характер у актера был сложным, – он сделал паузу, – но почему я говорю – был? Он ведь до сих пор работает у нас. Впрочем, это и понятно. За годы поклонения Виктор Петрович сильно избаловался и распустился. Он мог нецензурно обругать молодого коллегу, швырнуть книгой или стаканом в гримера, устроить безобразный скандал режиссеру… С годами все эти неприятные черты обострялись, осложнялись и отношения актера с коллективом. И тут появляется Бучумов. И почти сразу становится звездой. Разумеется, Лавровскому это не понравилось.