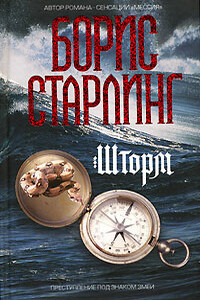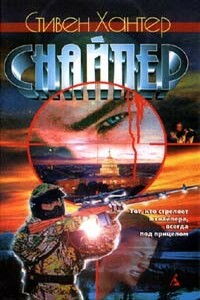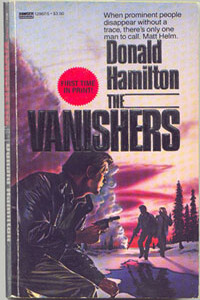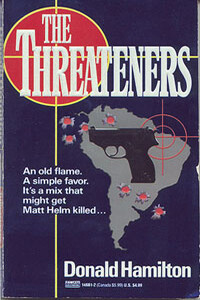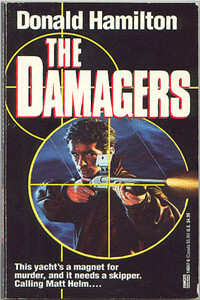Второй Саладин - страница 148
А вот тут, в более аккуратной и куда менее объемистой стопке – наглядное свидетельство того, что история пощадила хорошенькие нарядные здания и живописные горные пейзажи – «Западная Европа».
Потом «Африка», неразвитая, несколько жалких бумажек.
Затем пухлая и растрепанная кипа под заголовком «Юго-Восточная Азия», где на несколько долгих и горьких лет история остановилась.
И наконец, – у него не хватало духу взяться за нее – «Ближний Восток». Все эти маленькие государства, горячие, буйные, богатые, бесшабашные маленькие страны, ужас изгнания и предательства, стальная воля, экзотические обычаи.
Кому под силу разобраться во всем этом? Ни одному человеку. Даже наделенному таким выдающимся интеллектом и честолюбием, как Данциг.
Он развернулся (в своем махровом халате и босиком, вытянув перед собой изборожденные венами плоскостопные ноги с желтоватыми пальцами) и взглянул на бумаги.
«Ближний Восток». Этот раздел занимал полкабинета. Как-то раз, во время одного из приступов апатии, он начал было делить свой огромный архив на более мелкие кучки: «Иран», «Ирак», «Саудовская Аравия», кошмарная, кошмарная маленькая «Палестина» и раздутый «Израиль». Одна кипа бумаг за другой: рабочие доклады, отчеты, каталоги, торговые реестры, экономические сводки, отчеты разведки, снимки, сделанные со спутника, компьютерные распечатки, обзоры, черновые заметки, бюллетени разнообразных научно-исследовательских институтов – хлам, макулатура, фактическая протоплазма истории. И все это были документы наивысшего уровня секретности, святая святых.
В подвале у него хранилось еще тонны полторы нерассортированных документов, и на складе в Кенсингтоне тоже – газетные вырезки, приглашения в посольства, сопроводительные записки. Ни одному человеку было не под силу освоить все эти залежи со всеми их сложностями, всеми странными тонкостями.
И где-то среди этих бумаг, в одной папке или в сотне из них, лежал ответ на вопрос: кто пытается убить его? И почему. Неудивительно, что он сходит с ума. А кто бы на его месте не сошел? «Просто чудо, что я не спятил раньше. Неудивительно, что я ищу утешения в безумных идеях, восхищаясь причудливыми коридорами, по которым человеческий разум способен тащить громоздкие трупы».
Данциг разглядывал кипы папок, наконец-то ощутив свой собственный кислый запах. Он чувствовал себя как какой-нибудь герой Борхеса, заблудившийся в бумажном лабиринте, где кто-то приказал времени остановиться. Нет, правда – он угодил в ситуацию, которую могло породить лишь воображение слепого гения библиотекаря из Аргентины. И все же ему негде больше было находиться. Он не мог покинуть лабиринт. Если он выберется оттуда, его убьют.
Данциг пощипал переносицу. Она вдруг ни с того ни с сего начала ныть. Очки держались на ней всю его взрослую жизнь, и все же сейчас, в минуту величайшего напряжения, она тоже взбунтовалась. Все тело у него болело, его пучило, голова раскалывалась – всегда, всегда, всегда. Все системы его организма отказывали, он не мог ни на чем сосредоточиться дольше, чем на несколько минут, без конца ерзал и крутился. Всякий раз, едва он решал чем-нибудь заняться, в тот же миг в голову ему приходила мысль о другом, столь же неотложном деле, и Данциг немедленно за него хватался. Поэтому ни одно дело даже не приблизилось к завершению. Он превращался в Говарда Хьюза, гения-затворника, выдающегося психа, живущего вне всякой реальности, за исключением той, что творилась у него в голове.
«Я утратил власть над своей жизнью. Я – изгнанник в своем собственном доме, в своем собственном мозгу».
Внезапно он поднялся, но за усилием над собой позабыл, зачем вставал. К тому времени, когда он полностью стоял на ногах, он уже не мог бы сказать, что побудило его к этому шагу. Он снова уселся, так же внезапно, и заплакал.