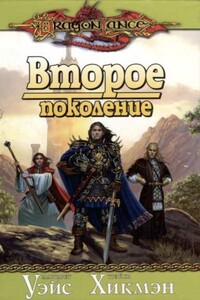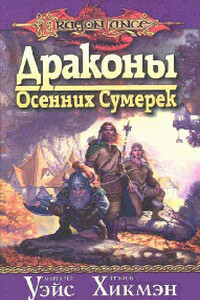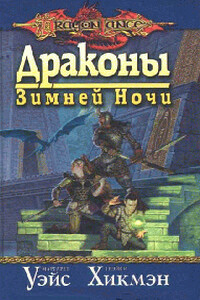Всегда, всегда одна и та же карта —
И там и сям на белизне темнеют
Укромные дома и вьются реки,
Но льдом окованы и воды, и земля,
И солнца луч дробится и сверкает,
Коснувшись глади древней ледяной.
Поверить нужно лишь в существованье
Холмов и долов, что на карту эту
Нанесены, — и жар священный сердца
Растопит лед, и оживет земля.
Но ты не веришь; холод сердце гложет.
Но ты твердишь: «Я знал, все так и будет.
Ледник вокруг, безжизненный пейзаж,
Глядишь, еще и мамонты найдутся.
Все мертво здесь, здесь все навек застыло:
И рыбы в водах, и трава под ветром
Укрыты холодом и льдом и вечной ночью.
Пройдут века, ученые мужи
Вдруг обнаружат мир, который сгинул,
Воскликнут: «Мы нашли седую древность!»
Поглотит вечность имена былого —
Названия озер, дорог и рек».
Так сердце повторяет, колотясь
В своей постылой клетке, уверяя,
Что этот край не нанесешь на карту
И жители его не отразятся
Ни в зеркалах, ни даже в глади вод.
На этот раз все было по-иному:
Не оказав зиме сопротивленья,
Весь город — крыши, улицы, таверны —
Безропотно снегам суровым сдался.
И ветер выл в проулках, будто духи
Голодные, свистел он в уши мне,
Когда я шел, дрожа, окрест взирая,
Не ожидая больше ничего
И даже, глядя в небо, уж не веря,
Что голубым оно весной бывает,
Не веря, что зима еще отступит.
На сотни голосов зима твердила,
Свистя вокруг поземкой, колкой крупкой:
«Да, так и будет — вечный, вечный холод,
Пожру весь свет и занесу снегами
Висконсин весь, а ты меня послушай:
Я расскажу историю тебе,
Поведаю, как исчезает вера
В возможность продолженья — не конца».
Да, штат Висконсин, занесенный снегом,
И безнадежность, и покой на сердце
Могильный. Говорят, что, замерзая,
Ты просто засыпаешь сладким сном.
Так пусть зима и впрямь сжирает солнце,
И город пусть укроет саван снега.
Я ничего не жду, и я не верю,
Что будет у преданий продолженье.
Он вдруг возник среди автомобилей,
Так снегом занесенных, что они
Уж походили больше на надгробья.
Он был как кокон — теплый шарф и шуба,
Три свитера, один поверх другого,
И шапка на глаза. Его узнал я
По этой шапке, странной и смешной,
Но главное — по взгляду сквозь очки.
(Сосредоточенно в багажнике он рылся.)
И вдруг мое сильней забилось сердце;
Набравшись храбрости, к нему я устремился
И разговор завел, и стало мне теплее.
Теперь гадаю — что меня вело?
Что подтолкнуло сквозь завесу снега?
Быть может, в безнадежно сером небе
Какой-то луч мелькнул, весну напомнив?
Поверите ль, я сам того не знаю,
Но посейчас судьбе я благодарен,
Что сделал шаг и разговор завел
С укутанной очкастою фигурой,
Пустившись тем на поиски весны.
Передо мной был тот, кто ткет событья,
Волшебник повседневного. Вершитель
Истории, укутанный, как куль.
К нему я обратил слова такие:
«Послушай, Трэйси, — я ему сказал. —
Поэзия таится в швах историй,
В воспоминаньях давних, в ожиданье
Того, что, может быть, вольно случиться».
(Я умолчал еще, замечу в скобках,
О том, что всякая история назло
Судьбе свершается, препятствия обходит:
Должна произойти и пробивает
Себе дорогу, будто семя почву.)
Тем зимним днем и началась весна:
Песнь новая о Кринне зазвучала,
И три луны опять на небосклоне
Взошли, чтоб зимний холод прочь прогнать.
Ты понял ли, читатель мой, сравненье?
Забвение и есть тот смертный холод,
Которым, коль предания забросишь,
Охватит праздность постепенно душу.
А если веришь, если сочиняешь,
Тогда в душе весна и гомон птичий,
Журчат ручьи, леса шумят под ветром,
И вот опять уж все герои в сборе.
На белизну страницы лягут буквы —
И пред тобой уже пейзаж не зимний,
А полный жизни, бурного движенья,
Но главное — что ты в него поверил,
Поверил в то, что кто-то по дорогам
Его спешит, находит кров и пищу,
Влюбляется, рыдает, ненавидит,
Встречается и снова расстается...