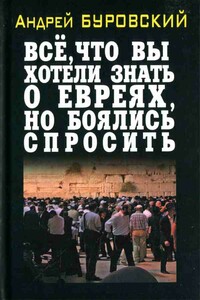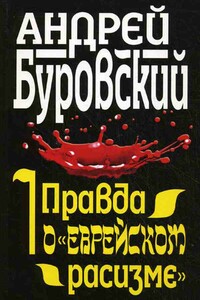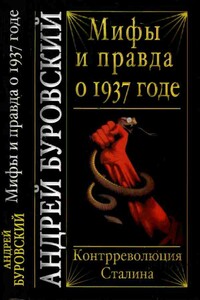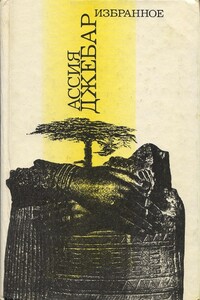Я ль не собирала
Для тебя добро?
— обращается мать к умирающей пионерке.
Шелковые платья
Мех да серебро,
Я ли не копила,
Я ли не спала,
Все коров доила,
Птицу стерегла.
Чтоб было приданое
Крепкое, недраное,
Чтоб фата к лицу,
Как пойдешь к венцу!
Слова матери — ржавой русской «кулачки» — это все «…постылые,/ Скудные слова», но зато вопреки материнской ржавчине:
Не погибла молодость,
Молодость жива!
Нас водила молодость
В сабельный поход,
Нас бросала молодость
На Кронштадский лед.
Ну и, конечно же, то, без чего Багрицкий не был Багрицким:
Возникай содружество
Ворона с бойцом —
Укрепляйся мужество
Кровью и свинцом.
Чтобы земля суровая
Кровью истекла,
Чтобы юность новая
Из костей взошла
Комментировать этот призыв к человеческим жертвоприношениям не хочется. Но и в других работах Э. Г. Багрицкого много примеров отвращения к человеку, сиюминутной готовности убивать. Отвращения к любому человеку, не бегущему опрометью от презренного «быта», не входящего в орден «своих».
Тогда же Багрицкий осчастливил человечество поэмой «Человек предместья»; в центре поэмы — эдакий полупролетарий-полукрестьянин, полуслужащий… в общем, стрелочник и проводник на железной дороге. Наверное, эта промежуточность положения должна вызвать у интеллигента первого поколения какой-то интерес, особенное понимание, потому что сам такой. Но куда там!
На голенастых ногах ухваты,
Колоды для пчел — замыкали круг,
А он переминался, узловатый,
С большими сизыми кистями рук.
То ли дело — романтика гражданской войны, душевные терзания порочного подростка от кулаков «ржавых евреев», от невозможности любить перемазанную селедкой девицу! А этот паршивый недобиток из предместья вот что делает:
Недаром учили: клади на плечи,
За пазуху суй — к себе таща,
В закут овечий,
В дом человечий.
В капустную благодать борща.
То он, понимаешь, столярничает, то, видишь ли, пчел тут разводит (нет бы, разводить чекистов или коммунаров), то корове сено косит… Страшный тип! А его жена еще и пытается молоко продавать:
Жена расставляет отряды крынок:
Туда — в больницу. Сюда — на рынок.
И:
Весь ее мир — дрожжевой, густой,
Спит и сопит, молоком насытясь,
Жидкий навоз, под навозом ситец,
Пущенный в бабочку с запятой.
В общем, совершеннейший ужас! Всякий раз, найдя у Багрицкого какое-нибудь по-человечески понятное удовольствие при виде «струганного крыльца» или «промытых содой и щелоком половиц», страшно удивляешься: ведь наряду с удовольствием видеть эти приметы нормальной жизни в нем живет устойчивая ненависть как раз к тем, кто эти вещи делает и поддерживает, что называется, в рабочем состоянии.
И проклятый «быт» превращается прямо-таки в чудовище, в монстра, которого необходимо уничтожить, пока он тебя самого не сожрал.
Тот же мотив бегства, отвращения к жизни — в целом ряде произведений Багрицкого. Юношеский максимализм? Но в 1930 году, когда писалось «Происхождение», Багрицкому исполнилось 35 лет. В год выхода «Смерти пионерки» — 37. Не дряхлость, конечно, но ведь и никак не юноша.
Если человек проклял свое прошлое, отрекся от «быта» — то есть от своей семьи, своего народа, — ясное дело, и не остается у него в жизни ничего, кроме служения своей безумной идее, и нужно идти до конца:
Оглянешься — а кругом враги;
Руки протянешь — нет друзей;
Но если он [век] скажет:
«Солги!» — солги.
Но если он скажет «Убей!» — убей.
Все остальное человечество, кроме нескольких тысяч тебе подобных, не разделяет веры в коллективную утопию… и закономерно появляется невероятная любовь к палачам, атрибутам пыточного ремесла, восхваления чекистов и комиссаров. Багрицкий доходит до какого-то садистского упоения в своем достаточно известном:
Враги приходили — на тот же стул
Садились и рушились в пустоту.
Их нежные кости сосала грязь,
Над ними захлопывались рвы,
И подпись под приговором вилась,
Как кровь из простреленной головы.
А над поэмой «Февраль» он работал до самого конца, до смерти в 1934 году, и представляет собой эта поэма своего рода поэтическое завещание.
Поэма длинная, приводить большие куски из нее я не буду. Желающие могут сами насладиться этим наглядным пособием к Фрейду. Герой этой поэмы, скорее всего, автобиографическая персона, — довольно жалкое создание. Дурной, неприкаянный мальчишка, совершенно лишенный любых культурных или интеллектуальных интересов, и мечтает он лишь об одном: