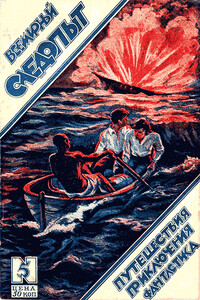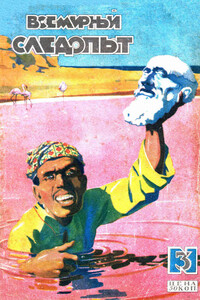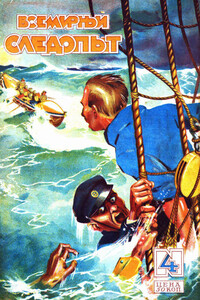Однако, мореплавателям вскоре пришлось разочароваться. Это была не Камчатка, а пустынный неизвестный остров, названный потом островом Беринга. Беринг, предполагая, что он находится вблизи Камчатки, распорядился cтать на якорь и высадиться на берег.
Однако, перепрелый канат не мог удержать корабль и лопнул. Судно было подхвачено береговыми бурунами, которые понесли его к берегу, поднимая и ударяя об утесы и камни. К счастью, корабль пострадал очень мало и остановился в небольшой бухте в полумиле от берега.
На следующий день, 7 ноября, все, кто мог, с большим трудом спустили шлюпку на воду и поехали на берег. На берегу они увидали лишь голые, каменные скалы, а вдали высокие горы, покрытые снегом. Кругом же не было заметно никаких признаков человеческого жилья. Только песцы попадались во множестве и совершенно не боялись людей.
К великой радости высадившихся моряков, они нашли на берегу ручей свежей воды и несколько выброшенных морем деревьев. Мореплаватели начали рыть на берегу землянки для зимовки и перенесли в них больных с корабля.
28 ноября сильным ветром корабль был выброшен на берег. Вскоре наступила зима. Большинство цынготных поправлялось медленно. С'естных припасов было очень мало. Приходилось питаться невкусным мясом песцов. К декабрю из восьмидесяти шести человек экипажа осталось только сорок шесть человек, а 8 декабря 1741 года умер и сам Беринг.
С огромными трудностями и лишениями оставшиеся сорок шесть человек дожили до весны. Весною они окончательно убедились, что они находятся не на Камчатке, а на каком-то неизвестном острове.
На общем совете было решено построить из остатков разбитого корабля небольшой бот и на нем попытаться добраться до Камчатки. В августе 1742 г. бот был готов, и злосчастные мореплаватели, простившись с могилой Беринга, вышли в море. По предложению лейтенанта Хитрово, острову, где они зимовали и где умер Беринг, было дано название «Берингов остров» (самый большой из группы Командорских островов).
26 августа 1742 г., после двухнедельного плавания по морю, бот с оставшимися в живых людьми благополучно прибыл на Камчатку, в Авачинскую бухту. На Камчатке все считали их уже давно погибшими.
Зимовавший на Камчатке Чириков ранней весною 1742 г. снова отправился было к берегам Америки, но бури, противные ветры и туманы не дали ему возможности добраться до Америки, и ему удалось только открыть несколько островов.
В июне месяце, идя обратно на Камчатку, Чириков прошел мимо острова, на котором зимовали спутники Беринга и где они в это время из последних сил мастерили себе бот. Но, к несчастью для спутников Беринга, Чириков прошел на своем корабле с южной стороны, тогда как спутники Беринга зимовали на северной стороне острова, и Чириков не увидел их.
Только через несколько недель после его возвращения на Камчатку туда же добрались на своем боте, полуголодные и полуживые, напоминавшие своим видом скелеты, спутники несчастного Витуса Беринга,
Так закончилась первая великая русская морская эспедиция. В этой экспедиции русские матросы, впервые плававшие по океану, с честью выдержали экзамен на моряков дальнего плавания и выказали свое необычайное мужество и выносливость, перенося в течение нескольких лет тяжелые лишения и борясь с опасностями.
Емельян промысловый.
Охотничий рассказ С. Бакланова.
С этим охотником — Емельяном Шугаевым — я познакомился недалеко от таежной закраины: там, где сибирская речка Урюп, хрустально прозрачная, то скрывается под тенью кедров, то блещет незатененная — шепчет лесные сказки рослой, цветистой прибрежной траве,
Емельян косил у берега, Мужики из деревни Акаточки мне указали:
— Вон он. Прямо подходи к нему, паря, и говори: пойдем на охоту.
— Да ведь он косит. Нельзя от дела отрывать.
— Покос для него дело последнее, — сказали мужики, — охота, — вот первое дело. Как заговоришь про охоту, сейчас он косу забросит; хватится за ружье…
Мне вспомнилось: однажды, в Тверской губернии, до сумерек предрассветных я постучал к своему большому приятелю — деревенскому сапожнику и охотнику. На стук мой приятель выскочил злой, словно поднятый с берлоги медведь.