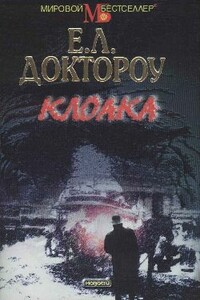Под текстом правил конкурса едва заметной тенью многозначительно проступал сдвоенный силуэт Трилона и Перисферы. Я даже не сразу осознал его присутствие. Потом только он проявился в памяти, словно адресованный лично мне — этакий тайный призыв, безмолвный, но повелительный.
Я очень хорошо понимал, почему мои родители все еще не собрались сходить на Всемирную выставку. Никто мне ничего не говорил, но я понимал. Набравшись храбрости, я попросил у библиотекарши карандаш. Мало того, попросил лист бумаги. Пусть себе улыбается, мне-то что. Списал все данные. Сердце бешено билось. Не услышали бы старики, дремлющие над журналами, да еще эти, которым деваться некуда — сидят тут на жестких стульчиках, клюют носами, — как проснутся, да как вылупятся на меня со свирепым видом!
Направившись к дому, я размышлял уже не над тем, какие фразы выдумаю для сочинения — о нет, я глядел дальше, видел уже собственную благородную главу в бронзе и устремленный в небо горделивый взгляд поверх нью-йоркской Всемирной выставки. Придут как-нибудь Мег со своей мамой на Выставку, глядь — а я тут как тут, на самом видном месте красуюсь. То-то у них рты откроются!
Домой я решил возвращаться не прежним путем, а пройтись мимо пекарни Пехтера к Парк-авеню и свернуть к северу вдоль железнодорожной ветки на Тремонт. Хотел полюбоваться на поезда в широченной канаве глубоко под ногами. Это была та ветка, по которой мой осанистый дядюшка Эфраим ездил из своего особняка на работу и обратно в Пелэм-Манор. Рельсы посередине Парк-авеню делили улицу надвое, обе узкие половины были булыжными, безлюдными и прилегали одна вплотную к глухим краснокирпичным стенам каких-то складов, а другая к забору из черных железных пик. Шагая вдоль забора по бурьяну, скрывавшему залежи мусора, я воображал себя канатоходцем, откалывающим лихие трюки на электрических проводах, сетью натянутых над путями.
И в этот миг, как снег на голову, двое мальчишек с ножами.
Я их еще и разглядеть-то не успел, а они на меня уже налетели. Потыкивая ножиками, стали теснить к забору, пока я не оказался плотно к нему приперт. Прутья в спину так и впечатались.
От ужаса появилась даже некая отрешенная ясность мысли. Мальчишки были большими — ровесники моего брата. У одного, который похилее, глаза были такие мертвенно-белесые, такие страшные — я в жизни таких не видал, — близко посажены, и узкое, перекошенное лицо. Углы маленького рта зло опущены, нижняя губа с одного края оттопырена, и видны зубы.
Тот, что поплотней, был выше ростом, его иссиня-черные, зачесанные назад волосы торчали перьями, круглое скуластое лицо пестрело угрями, а вздернутый нос походил на поросячий пятачок. И черные ноздри почти правильными кружочками. Нож к моему животу он прижимал не так решительно, как тот, другой. Нервничал, поглядывал по сторонам.
— Еврей? — прорычал хилый.
— Нет, — сказал я.
Он осклабился, протянул свободную руку и вышиб у меня из рук книги. Книги повалились в бурьян.
— Ну, жиденок, — сказал он, — сейчас я тебе уши отрежу. Давай, исповедуйся.
— Что-что?
— Поглядеть охота, как ты перекрестишься. А я вообще не знал, что это такое.
— Жиденок, ясное дело! — Он посильней вдавил острие ножа мне в живот. Сталь добралась до кожи. Еще нажим, и он проткнет меня.
— Ну-ка, где деньги?
— Слушай, — сказал толстый, — давай скорей. — Он и впрямь нервничал. Я вынул то, что у меня было, — десятицентовик и два цента. Толстый скогтил монетки из моей ладони. — Пошли, — сказал он приятелю.
— Ага, только сперва я этому жиденку за вранье кишки выпущу.
— У меня папа полицейский, — сказал я тому, что побольше. Глядеть на него я старался как можно тверже, понимая, что он побаивается. — Как раз на этом участке. На патрульной машине.
Оба уставились на меня. Больше мне на них воздействовать было нечем. В следующий миг меня могли убить или оставить в покое: злобный коротышка заколебался, и все зависело от того, какая блажь в нем перевесит. Острие покалывало живот. Нажим усилился.
— Ладно, пошли, — буркнул толстый.
Хилый поддел меня под подбородок и стукнул затылком об забор.