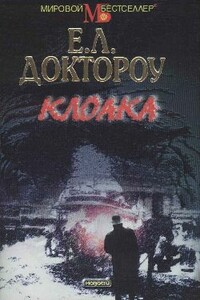И вот нахлынула круговерть цветного огня, вращающаяся, словно гигантский маховик, мельтешащая с такой быстротой, что, казалось, издает стон. Потом свет расслоился, ринулся на меня, впиваясь в меня иглами, пролетая мимо красными и желтыми жалами, вот голова наполнилась ревом, и он в ней запульсировал. Вдруг из сердцевины огненной круговерти сквозь воющий рев — хлоп! — выскочил утенок Дональд Дак и замаячил, что-то говоря, но клюв его издавал только щелчки, потом передо мной появился Микки Маус, стал корчить страшные рожи и тоже заревел, защелкал, и оба они хохотали надо мной, грозили кулаками и скалили зубы. И я уже ничего не мог поделать, я дышал этим ужасным газом в каком-то кафельном бассейне или коридоре, стены которого то сходились ко мне, то расходились. Я провалился сквозь статью в моей «Иллюстрированной энциклопедии Комптона», статья была про море, и всяческие подводные существа хохотали мне в уши, смех дробно бился, будто стук компрессора, и я не мог прекратить дышать, хоть и знал, что дышу машиной. Пахло холодом, шипенье стало затихать. Я ощущал себя будто в глубинах моря, плыл, вдыхая каким-то образом этот воздух — единственное, что было мне оставлено для дыхания в холодной пучине. И тут — настолько явственно, что я даже вскрикнул, — я почувствовал, что меня режут, почувствовал, как нож входит мне в живот и режет его сверху вниз. Я попытался им сказать, чтоб прекратили, но в рот с сипеньем полилась вода, и я увидел, как меня несет, несет куда-то, а они резали и резали, я все пытался крикнуть, но не получалось, слезы распирали мне горло, будто само горе стояло в нем, я почувствовал такое отчаяние, такой ужас смерти, что сдался, поплыл по течению. И меня унесло прочь.
Потом (казалось, целую вечность спустя) мне сперва являлись какие-то видения, затем перестали. Было тихо. Я слышал голоса, но слов не различал. Во рту сухо. Я позвал, попросил воды, и мне провели по растрескавшимся губам влажным комком ваты. Я разозлился, забил ногами и пришел в себя. Вот гады — привязать человека к столу и заставлять дышать тем, чем и дышать-то нельзя! Меня удержали, Дональд взял меня за руку со словами: «Ну не надо, не надо!» Я заснул и проснулся на этот раз с совершенно ясной головой. Я лежал в каком-то помещении, разгороженном ширмой. Все остальные были по ту сторону этой ширмы. Занимались своими делами. Плакали какие-то дети. Ширму отодвинули, и медсестра показала мне, как я должен пить. Она взяла тонкую палочку с намотанным на один конец комком ваты, окунула ее в стакан с водой и дала мне высосать из ваты воду. Этого мне было мало, но она позволяла мне пить только так.
Мне было очень плохо, казалось, во мне все слиплось, и я чувствовал все свои внутренности, распиравшие живот. Мне сказали: лежать не шевелясь, и я лежал тихо, да и как шевельнешься, если внутри все склеилось? Потом со мной немного посидела мать. Она за что-то сердилась на медсестру. Мать сказала, что у меня такие ощущения потому, что мне поставили дренаж, сказала, что операция кончилась, что беспокоиться не надо, такое больше не повторится, но там, где у меня разрез, теперь вставлены резиновые дренажные трубки, чтобы из тела вышел весь яд. Эти трубки специально оставили на некоторое время во мне, чтобы не дать тканям сомкнуться и яд мог окончательно вытечь. Вот и все. Я не хотел ничего об этом знать. Не хотел и смотреть.
Когда врачи меняли мне повязки, я держал глаза за-» крытыми — не хотел видеть. Чувствовал себя неважнецки. Как-то все было противно. Ужасная усталость, все болит, со мной так скверно обошлись, изрезали, какими-то нитками зашили, вставили этот дренаж, и я ночами, просыпаясь в пустой палате и слыша, как где-то плачет другой ребенок, не удержавшись, тоже начинал плакать.
Потом навестить меня пришла бабушка. Она прошла сквозь ширму. Значит, она все же не умерла. Хорошо еще, что моя кровать со всех сторон загорожена ширмой — так хоть никто не увидит бабушку: мне было неловко, что она говорит на идише и что она такая старенькая и потрепанная в своем черном платье, а уж волосы, пусть они даже и заплетены в косицы, уложенные на затылке в узел, там и сям торчат секущимися кончиками и придают бабушке вообще-то несвойственный ей неопрятный вид; к тому же от нее пахнет этой ее кислой травкой. Однако пить очень хотелось, и я объяснил ей, как надо мне давать воду; она все сделала правильно. Затем она пощупала мне своей старческой сухой ладошкой лоб, решила, что он чересчур горячий, отыскала в ногах кровати салфетку, вышла за ширму к раковине, намочила салфетку холодной водой, вернулась и положила сложенную салфетку мне на лоб. «Милый ты мой золотой мальчик», — сказала она, и я все понял, хотя говорила она на идише. Вынула свой старенький, весь потрескавшийся кожаный кошелек и достала оттуда монетку. Зажав монетку двумя пальцами, она другой рукой открыла мне ладонь и придавила к ней монетку, точно как она это делала всегда. «Благословляю тебя, дитя мое возлюбленное, дай Бог тебе здоровья. Ты хороший мальчик, я так люблю тебя, — произнесла она. — Храни тебя Господь».