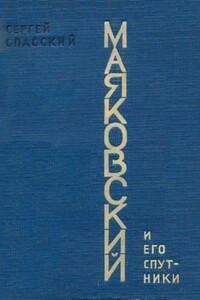Подражание Хемингуэю проскальзывает и в первых парижских записках, но ненадолго.
Некрасов быстро улавливает собственную манеру описания бесконечных сидений за столиком кафе, божественного вкуса разливного пива, шатания по улочкам Латинского квартала или топтание у рундуков букинистов вдоль набережных Сены. Так что перед Хемингуэем краснеть нам не приходится. Американский певец Парижа был не скажу, что посрамлён, но местами переплюнут. И перепит.
В журнале «Стрелец» за пару лет до смерти Некрасова был опубликован большой его рассказ. И тут дрогнуло сердце и перо писателя, отдал-таки дань почтения прекрасной хемингуэевской книжке о Париже, назвал свой рассказ «Праздник, который всегда и со мной». Кумир Хэм, наверное, довольно ухмыльнулся на небесах, а его почитатель Некрасов при встрече с ним, я думаю, почтительно развёл руками. Мол, что поделаешь, Париж, как ни верти, а праздник. Лучше, мол, не скажешь…
«Что его ни раскрою – всё хорошо», – писал Лев Толстой о Куприне. Так можно сказать и о Викторе Некрасове.
Позволю себе заметить, дорогой мой Витька, писал мне В.П., что я не считаю себя профессиональным писателем. Конечно, я зарабатываю на жизнь своим пером. Игривым, шаловливым, лёгким, но не блудливым! Но пишу я лишь тогда, когда мне хочется. Пока такое получалось, дальше не знаю.
Но он любил, когда его называли писателем. И сам так отрекомендовывался.
– Вы чем занимаетесь в жизни?
– Пишу! – сухо отвечал В.П. незнакомым людям.
И люди умолкали, часто с почтением.
– А что вы пишете? – настаивали очень уж общительные.
– Разное! Это зависит от расположения духа!
Действовало безотказно, даже самые неугомонные отпадали с вопросами…
Мама на всё лето уезжала преподавать в Русский культурный центр в Медоне. Виктор Платонович с наслаждением вкушал, – а иногда и всасывал, – радости холостяцкой жизни.
На телефонные вопросы мамы, чем, мол, питаешься, отвечал словами известного до войны парижского журналиста и острослова Дон Аминадо. Который, недоедая на скудные гонорары, дал объявление в «Русской мысли»: «Хожу на обеды. Расстояниями не стесняюсь!»
– Что вы хотите, Виктор Платонович, на ужин? – затевала обычный разговор Мила.
– Супчик!!!
– А котлетки хотите?
– Хочу и котлетки, но сейчас – супчик!
В нашей семье при слове «суп» все понимающе ухмылялись. Как-то Мила налила холостякующему Вике тарелку приготовленного пару дней назад супа и пошла хлопотать на кухню.
Чтобы поддержать приличия, я сидел за столом, присутствовал при трапезе.
Выхлебав суп, он невнятно поблагодарил.
– Ну, как суп? – спросила Мила.
– Прокис! – не вдаваясь в подробности, объявил В.П. и закурил.
– Как прокис? Почему же вы съели прокисший суп?! – запричитала Мила.
– Другого нет, а прокисший был тоже неплох, – спокойно ответил В.П.
С тех пор вопрос «Как суп?» вошел в анналы.
Вкусы Некрасова отличались лёгким извращением. Чёрную икру, устриц, крабов и гусиную печёнку – в рот не брал. Обожал оладьи, манную кашу, котлеты, супы и борщи, вареники с вишнями, чай с лимоном и булку с докторской колбасой.
К изыскам относился скептически. Вернувшись из гостей, где подавали маринованные куриные крылышки, с горестью сообщил:
– Накормили какими-то подмышками!
Из Норвегии Вика привёз пуд роскошной рыбы – солёной и копчёной. Мы с Милой поедали её, начиная с утреннего кофе. В.П. наслаждался нашим аппетитом, а с меня просто не сводил глаз.
– Что, плутовку сыр пленил?! – радовался В.П.
Я уписывал за обе щеки. А чтобы порадовать нашего рыбного благодетеля, ещё и разыгрывал акулий инстинкт, которым, по слухам, страдал дедушка Крылов.
Паясничая, я напомнил с укором Вике тот прекрасный день, когда он вёз красную рыбу с Камчатки и наивно надеялся довезти её до Киева. Но в Москве у Лунгиных рыбу перехватили и, позвав близких друзей и соседей, умяли её за считаные минуты.
– Точно так ели, как ты сейчас, Витька! – с тоской по родине промолвил В.П. и побежал за фотоаппаратом, увековечить…
Первое время писатель щеголял по квартире в махровом банном халате поверх домашней одежды, на манер английского эсквайра, выкроившего время отдохнуть в курительной комнате. Бывало, что и гостей в нём принимал. Приводя в негодование Милу, утверждавшую, что до приезда советских диссидентов такого позорища Парижу и не снилось.