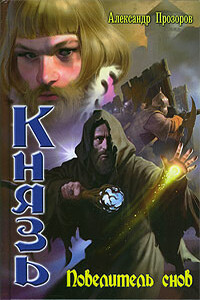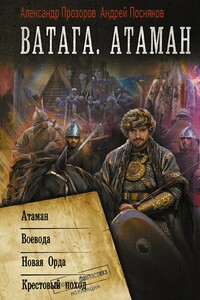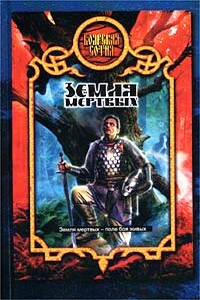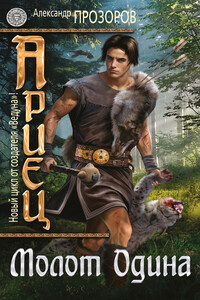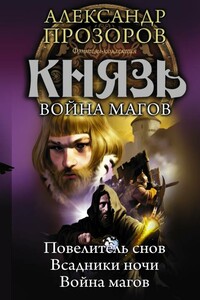— Слушай, Ксения… — В согнутом виде догнать старуху не получалось, и Андрей опять распрямился. — Скажи, а ты только нас с княжной Шаховской сводишь или еще кому-то помогаешь?
— Да когда же мне иным помогать, касатик, коли вы с чаровницей каженный день милуетесь? — оглянулась нищенка. — Ныне токмо вам.
— А раньше?
— И иным помогала, — не стала отрицать старуха. — Сердечко-то не каменное, жалею вас, молодых. От одного весточку любой отнесу, от другой ответ передам. А там, глядишь, и коснуться друг друга захотите… Ну и сведу вместе — отчего не свести? Страсть ведь любовную, милок, ни стены каменные, ни решетки железные, ни рвы глубокие остановить не смогут. Все едино прорвется, суженых воедино свяжет.
— Крепко связывает, Ксения? Женятся потом просители твои или только милуются недолго?
— Милуются чаще… — сбавила шаг попрошайка. — Кто месяц, кто год… А ты, никак, уж отринуться от княгини замыслил?
— Нет, Ксения, нет, — мотнул головой Зверев. — Никогда. Этого не случится никогда. Покуда жив я, ни за что с ней не расстанусь. Моя она будет, только моя. Я, наверное, женюсь на ней. Чтобы уж точно. Навсегда.
— У-угу, — буркнула что-то неразборчивое попрошайка и торопливо застучала клюкой по дубовым плашкам.
— Что? Что ты сказала, Ксения? — догнав, положил ей руку на плечо Андрей.
— Ништо.
— Нет уж говори!
— Да молчала я, касатик, — отмахнулась попрошайка. — Кашлянула просто.
— Обижусь, Ксения, — тихо пообещал князь Сакульский. — Будешь опять на паперти стоять.
— Ох, сокол наш ясный, — вздохнув, оперлась подбородком на клюку старуха. — Все вы так поначалу сказываете. Ан иной раз и седмицы не пройдет — и нет у вас к любой никакого интересу.
— То другие, Ксения. У нас с Людмилой все будет по-иному.
— Все так молвят, касатик. Однако же к венцу еще никто из любезных воздыхателей не дошел. — Попрошайка глубоко вздохнула, перекрестилась и опять затрусила вперед: — Да простит Господь прегрешения мои тяжкие. Видит он, не со зла, а из жалости на грех смертный шла. Да пребудет со мной милость Девы непорочной, да заступится она за меня пред чадом своим венценосным…
Возле храма Успения, в тесной конуре нищенки Зверев переоделся и вышел на темную улицу уже не юродивым бедолагой, а знатным боярином, коего стражники из ночных дозоров предпочитали зря не окликать — чтобы под гнев не попасть часом. Князей и дьяков государевых в Москве много встречается. Иной так быстро на плаху отправить может — и слова в оправдание не успеешь сказать. Крест исповеднику поцелуешь — и голова долой. Посему до дома Ивана Кошкина Андрей добрался быстро и без приключений. Подмигнул Пахому, что, как верный пес, дожидался на крыльце возвращения хозяина, забежал к себе в светелку, скинул ферязь, повесил на стену саблю, после чего спустился в трапезную перекусить и… Оказался в самой гуще шумного пира.
— О, наконец-то, друг мой дорогой! — Уже скинувший кафтан, раскрасневшийся боярин Кошкин дернул себя за короткую реденькую бородку и поднялся с кресла, раскинув руки: — Где же ты ходишь, княже? Мы тут за здравие твое аж три кубка выпить успели, а ты нейдешь и нейдешь.
Андрея он так и не обнял, не дождался: потерял равновесие, упал обратно в кресло, схватился за кубок, притянул к себе:
— Опять пусто… Наливай! Нет, не сметь! Хочу братчину с другом нашим князем Андреем выпить! Братчину! Братчину! Эй, кто там есть? Заур, Степан? Братчину!
Среди многочисленных — человек тридцать — гостей этот призыв особого восторга не вызвал. Да оно и не удивительно: знакомых лиц за столом Зверев не видел. Значит, бояре были не из их пивного братства, чужаки. Им глотнуть из священного сосуда, скрепляющего мужскую дружбу, не светило. Вот только что они тут тогда все делали?
— И дьяк Иван Юрьевич ныне чего-то набрался, — негромко отметил для себя Андрей. — Небось, устал в приказе да заместо ужина хлебным вином подкрепился.
Князь пробрался во главу стола, сел справа от хозяина, решительно притянул к себе блюдо с разделанной только у хвоста небольшой, с полпуда, белорыбицей. Кубок трогать не стал — сейчас ведь котел с пивом принесут. Им с Кошкиным на двоих. Пей, не хочу.