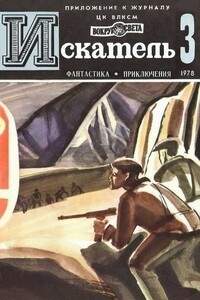Мне показалось, что Зернов помешался. Необъяснимость происходившего, реальность и призрачность этих перемещений во времени и пространстве, болезненный мир Кафки, ставший нашей действительностью, могли напугать кого угодно до липкого пота на дрожащих ладонях, до противной ватности во всем теле, но все же мне думалось, что никто из нас не утратил ни самообладания, ни привычной ясности мысли. Мы с Мартином только переглянулись в полутьме, но не сказали ни слова.
Зернов засмеялся.
— Думаете, с ума сошел? А знаете парадокс Бора о безумии как о признаке истинности научной гипотезы? Но я не претендую на истинность, я только высказываю одно из возможных предположений. Но есть ли это тот самый контакт, о котором сейчас мечтают все интеллигентные представители человечества? Не пытаются ли «облака» через нас, именно через нас, сказать людям о том, что они делают и зачем они это делают? Допуская нас к своим экспериментам, не обращаются ли они к нашему интеллекту, предполагая, что мы сумеем понять их смысл?
— Странный способ связи, — усомнился я.
— А если другого нет? Если наши виды связи им неизвестны? Или недоступны? Если они не могут прибегнуть ни к оптическому, ни к акустическому, ни к другому приемлемому для нас способу передачи информации? И если им недоступна телепатия, неизвестен наш язык, азбука Морзе и другие наши сигнальные средства? А нам недоступны их виды связи. Что тогда?
Нас опять занесло на повороте и швырнуло к стенке. Мартин прижал меня, я — Зернова.
— Не пойму я вас, — озлился Мартин, — они творят, они моделируют, связи ищут, а нас — кого к стенке, кого в петлю. Бред собачий.
— Они могут не знать. Первые опыты, первые ошибки.
— А вас это утешит на виселице?
— Я что-то в нее не верю, — сказал Зернов.
Я не успел ответить. Машину рвануло вверх, кузов раскололся. Яркая вспышка света, адский грохот, длившийся какую-то долю секунды, невесомость и темнота.
Веки с трудом разжались, будто склеенные, и тотчас же отозвалась в затылке пронзительная острая боль. Высоко-высоко надо мной мерцали огоньки, как светлячки летней ночью. Звезды? Небо? Я нашел ковш Большой Медведицы и понял, что я на улице. Медленно-медленно попробовал повернуть голову, и на каждое движение отвечала та же колющая боль в затылке. Но все же я различил неровную черноту домов на противоположной стороне улицы, мокрую от дождя мостовую — она чуть отсвечивала в темноте, и какие-то тени посреди улицы. Присмотревшись, я узнал в них остатки нашей разбитой машины. Темные бесформенные куски — не то асфальт, вздыбленный и расколотый, не то мешки с тряпьем — валялись поодаль.
Я лежал у ствола едва различимого в темноте дерева, мог даже пощупать его старую морщинистую кору. Подтянувшись, я привалился к нему спиной. Стало легче дышать, и ослабла боль. Если не трясти головой, она уже не чувствовалась — значит, череп был цел. Я тронул волосы на затылке, понюхал пальцы: не кровь — нефть.
Преодолевая слабость, я встал, обнимая дерево, как любимую девушку, и долго так стоял, всматриваясь в безлюдную уличную темь. Потом, медленно переступая плохо держащими ногами, пошатываясь на каждом шагу, пошел к разбитой машине. «Борис Аркадьевич! Мартин!» — тихо позвал я. Никто не отозвался. Наконец я подошел к чему-то бесформенному, распластавшемуся на мостовой. Вгляделся. То была половина тела в немецком солдатском мундире, без ног и без лица: все, что осталось от первого или второго нашего конвоира. Еще два шага — и я нашел еще труп. Обеими руками он прижимал к груди автомат, ноги в коротких сапогах были раскинуты, как у картонного паяца на ниточке, а головы не было. От нашей машины осталась груда вздыбленных ввысь обломков, похожих в темноте на измятый гигантский газетный лист. Я обошел ее кругом и у обочины соседнего тротуара нашел Мартина.
Я сразу узнал его по короткой замшевой курточке и узким брюкам — таких брюк никто из немецких солдат не носил. Я приложил ухо к груди его — она ритмично подымалась: Мартин дышал. «Дон!» — позвал я. Он вздрогнул и прошептал: «Кто?» — «Ты жив, дружище?» — «Юри?» — «Я. Можешь приподняться?» Он кивнул. Я помог ему сесть на обочину и сел рядом. Он тяжело дышал и, видимо, еще не привык к темноте: глаза моргали. Так мы просидели молча минуты две-три, пока он не спросил: