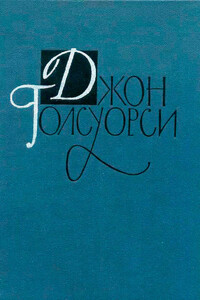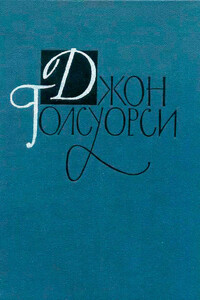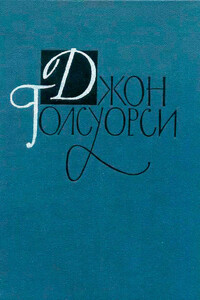– Пойду уложу Ива. Я его покормила перед уходом. Вы бы закрыли ставни.
– Где «Телепрограмма»? – бубнит Жан-Жак. – Восемь часов. Мы пропустим начало «Афалии». Отдай мою книгу.
– Кто ищет, тот найдет, – дразнится Симона.
– Я тебе покажу.
Луи открывает окно и видит два полотенца – пестрое и белое. Сигнал? Луи не любит ломать голову. Он захлопывает ставни, потом окно и бежит разнимать детей. Каждый схлопотал по весомой оплеухе – руки Луи огрубели от штукатурки. Симона ревет. Жан-Жак сжимает губы и, бросив на отца мрачный взгляд, скрывается у себя в комнате.
Пестрое полотенце, белое полотенце, тревожное удивление Мари, когда он пришел! Квартиру заполнил голос Леона Зитрона, сообщающего новости дня, но между отдельными словами прорывается другой голос – голос Алонсо, призывающий в свидетели хозяина бистро – тот разливает анисовку.
– Все бабы – Мари-шлюхи, Мари – всегда пожалуйста, Мари…
– Мою жену тоже зовут Мари.
– Извини меня, Луи, из песни слова не выкинешь. Короче, все они шлюхи. У тебя на душе спокойно. Ты на работе, а милашка твоя сидит дома. Что, ты думаешь, она делает: стряпает разносолы, чтоб тебя побаловать? Балда ты этакая, не знаешь, что, пока тебя нет дома, ей кто-то расстегивает халатик.
– Брось трепаться.
– Мне-то что, доверяй ей и дальше. Конечно же, твоя женушка – особая статья. Не возражаю! Привет ей от меня. Шах королю, господин Луи. Только если в один прекрасный день ты застукаешь ее, как я свою застукал… с сенегальцем…
– А я думал, с америкашкой, – перебивает хозяин бистро, подмигивая.
– Сенегалец, говорю я тебе, совсем черный и совсем голый. Но я не расист. Да и она тоже. Налей-ка нам по второй.
Глупо вспоминать истории Алонсо, он всегда только об одном и говорит, в его рассказах меняются разве что партнеры мадам Алонсо Гонзалес, цвет их кожи и национальность – в зависимости от числа пропущенных стаканчиков.
Глупо думать об этом, так же глупо, как думать о белом и цветном полотенцах, вывешенных здесь, вроде как сигнальные флажки на корабле.
– Он даже не проснулся, когда я его переодевала. Счастливый возраст. Никаких забот.
– Да, – подтверждает Луи.
– Лишь бы с ней ничего не стряслось.
– С кем?
– С Мари.
– Нашел, нашел, – победно кричит Жан-Жак, размахивая книжонкой из классической серии, – она лежала на радиоприемнике. Должно быть, ее читала мама.
Послушай, бабуленька:
Да, я пришел во храм – предвечного почтить;
Пришел мольбу мою с твоей соединить,
День приснопамятный издревле поминая,
Когда дарован был Завет с высот Синая.
– Ну и скучища эта «Афалия», – орет Симона.
– «Как изменился век!..
Бывало, трубный глас…»
– Бабуленька, четверть девятого.
– Куда же запропастилась Мари?
– Я хочу есть… Я хочу успеть поесть, прежде чем начнется «Афалия».
– Не успеешь… Не успеешь, – дразнится Симона. Она валяется в столовой на диване.
– Изволь-ка встать. У тебя грязные туфли. Мама не разрешает…
Телевизор горланит. Жан-Жак твердит:
– Я хочу есть… Я хочу есть…
Симона сучит ногами, цепляется за бабушку – та пытается стащить ее с дивана. Как это ни странно, Луи все сильнее ощущает свое одиночество среди этого невообразимого шума и гама, который бьет ему по мозгам. Он с размаху хлопает ладонью по столу:
– Замолчите, черт возьми, замолчите и выключите телевизор.
Стоит сойти с автострады 568, которая сливается с кольцевой дорогой номер 5, пересекает город и на выезде опять разветвляется, одна ветка идет на Пор-де-Бук, другая – на Истр, как попадаешь на тихие, будто не тронутые временем улочки.
Мари надо бы торопиться, но она погружается в эту тишину, которая засасывает и оглушает ее, как только что оглушая шум от карусели автомобилей и грузовиков.
Здесь город опять становится большой деревней, какой он и был до недавнего времени. Лампочки, освещающие витрину, слабо помаргивают в полумраке. Над маленькой площадью, на которую выходят пять переулков, словно бы витают какие-то призраки, и Мари кажется, что она задевает их головой. Кошки шныряют у кучи отбросов. Подворотни вбирают в себя всю черноту фасадов. Только белоснежная статуя мадонны ярко сияет в нише.