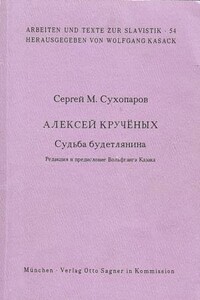Время вспять - страница 54
Смело взяв (иные скажут нахально) пример с Дирака, я назвал книгу "Принципы ядерного магнетизма". На русском языке заглавие было просто "Ядерный магнетизм"; с моим желанием отдать честь Дираку, как вообще с любым моим желанием, связанным с переводом моей книги, не посчитались, что не удивительно, так как моего мнения никто не спрашивал. Как научный работник и педагог я, конечно, был очень доволен, что книга переведена на русский язык; но сожалел, что она была напечатана на скверной бумаге, что мне не сказали, каков был тираж, и, самое главное, что, несмотря на наличие большого спроса на нее среди учащейся молодежи, ее никогда не переиздавали. "У нас этого не делают", — объяснили мне. Дело, конечно, не в гонораре, который меня мало интересовал, а в желании любого автора найти признание у читателя. Технически перевод был, безусловно, компетентен. Что касается его литературных качеств, то на вопрос профессора Скроцкого, редактора перевода всех моих книг на русский язык о моем мнении о литературном качестве перевода другой моей книги, я ответил: "Вы не Пастернак, да ведь и я не Шекспир".После этого отступления возвращусь к тому, как книга писалась. Это были четыре года ожесточенного труда. Можно лишь удивляться, как мне удалось совместить написание книги в 600 страниц (вместо 300 страниц для ЯМР вместе с ЭПР, о которых говорил Прайс) с основанием моей лаборатории и управлением ею и с моими личными работами. Объяснение заключалось в том, что между этими разными заданиями существовал симбиоз. С одной стороны, наши идеи (мои собственные и моих юных сотрудников) и результаты наших экспериментов питали книгу одновременно с их публикацией в научных журналах. А с другой стороны, написание книги служило предлогом для новых теоретических или экспериментальных работ. Например, желая расширить и уточнить в книге теорию спиновой диффузии Хуцишвили, я "заказал" эту работу де Жену (de Gennes), и ее публикация в книге появилась раньше, чем в журнале. Иногда я придумывал эксперименты для наглядной демонстрации развиваемой в книге теории. Именно так родились некоторые, далеко не тривиальные эксперименты, осуществленные в лаборатории. Редко я приводил расчет, взятый из литературных источников, без того, чтобы постараться сделать его короче, понятнее или строже. Раньше я уже говорил о своих усилиях сорвать со статистических работ Блоха их "вагнеровскую мантию". Такого же рода операцию я произвел над очень важной, но труднопонятной работой Альфреда Редфильда, про которую многие читатели говорили мне, что они поняли ее, лишь прочитав мою книгу. Я строго следовал своему правилу не включать в книгу ни одной теории, с которой я не был согласен или которую я не совсем понимал, ни одного экспериментального результата, который грубо противоречил хорошо установленной теории, ни одной формулы, которую бы я сам не проверил. От последнего правила я отступил дважды, доверяя авторам, которых уважал, и каждый раз сожалел об этом. Все те, кто пишут книги для студентов, знают (или, по крайней мере, должны бы знать) о своей ответственности перед студентами, которая тем больше, чем лучше студент. Хороший студент, который читает научную книгу с пером в руке, доверяет автору и, когда наталкивается на ошибку, теряет много времени, стараясь понять или доказать неправильный результат. Я не хочу этим сказать, что безобидно накапливать ошибки в оригинальной статье, но в этом случае можно надеяться, что искушенный читатель сможет распознать ошибку коллеги скорее и, может быть, не без некоторого невинного удовольствия. Поэтому я и был так осторожен. Я помню формулу, приведенную П.В. Андерсоном и Н. Бломбергеном (ни тот, ни другой тогда еще не был Нобелевским лауреатом), которая различалась у них множителем 4 (или, может быть, 8 — давно это было) и для которой я сам нашел множитель, отличный от обоих. Я проконсультировался с Уолтером Коном (Walter Kohn) и с де Женом, чьи результаты, к счастью, совпали с моим. Я облегчал напряжение работы над книгой, придумывая для каждой главы забавные эпиграфы (или, по крайней мере, казавшиеся мне таковыми). Увы, их скосили при переводе на русский язык. В предисловии я напомнил читателю (и коллегам), что, по мнению автора, в книге, в отличие от статьи, ссылка на приоритет не является необходимой. Этим путем я значительно укоротил библиографию и… нажил себе немало недоброжелателей. Успех книги превзошел все мои ожидания. Кроме русского она была переведена на японский и на французский! За последние двадцать с хвостиком лет, если верить знаменитому "Citation Index", она цитировалась более десяти тысяч раз, чаще, чем раз в день, и (у нас это делают) перепечатывалась несколько раз. Я так распространился насчет этой книги не только потому, что прожил с ней четыре бурных года, иногда — как с любовницей, "блестящей, ветреной, живой", иногда — как со сварливой женой, но и потому, что она бросает тень на остальные мои достижения, которыми, грешный человек, я дорожу больше. Конан Дойл — создатель бессмертного Шерлока Холмса — был раздражен его успехом, который, по его мнению, бросал тень на другие его творения, которые ему казались важнее. Таков и я. Всякий, кто соприкасался хоть слегка с ЯМР, а таких немало, знает мою фамилию благодаря книге. Но кто из них слышал про мои работы о сверхтонкой структуре, о ДЯП, о поляризованных мишенях, о ядерном псевдомагнетизме и о том, что я ценю больше всего и о чем расскажу подробно в другой главе, — о ядерном ферромагнетизме и антиферромагнетизме? В конце концов, возможно, успех, которым пользуются мои остальные творения, вполне состветствует их ценности, а успех книги преувеличен. Что делать, очевидно, никто не доволен своей судьбой. Вся физика и все писание, о которых я рассказал, очень занимали меня, но не настолько, чтобы сделать равнодушным к моей карьере в КАЭ. Более, чем чин, оклад или престиж, также не оставлявшие совершенно равнодушным сорокалетнего господина, которым я сделался незаметно для себя, меня прельщала независимость, к которой я всегда стремился; я нашел свою дорогу и не желал, чтобы кто-нибудь из начальства давал мне советы или, что еще хуже, инструкции, куда мне идти. Это было не так легко: КАЭ был (и остался) учреждением с сильной субординацией, от высот, где парил двуглавый орел, ГА и ВК, до скромного начальника секции, последнего из начальников. Все должности, которые я занимал в КАЭ в течение моей карьеры, вплоть до Директора Отделения физики (я мог бы стать и Верховным Комиссаром, если бы захотел), я занимал не из-за любви к власти, а из-за того, чтобы тот другой, кто занял бы эту должность при моем отказе, не упражнял бы свою любовь к власти за мой счет. Должен признаться, что разные обязанности, которые мне выпадали, пробуждали во мне новые интересы и расширяли кругозор, но подробнее об этом позже. Дай оглянусь…Вздыхать о сумрачной России. Впечатления возвращенца не с того света. — Портрет колкого гения. — Полет в пространство и время. — Портрет причудливого гения. — Превратности переводаВесной 1956 года произошло событие, которое меня сильно взволновало, — первая поездка в Россию, через более чем тридцать лет после того, как я ее покинул десятилетним мальчиком. Это была коллективная поездка, организованная по инициативе Жолио для физиков-ядерщиков НЦНИ и КАЭ. По правде говоря, я, конечно, не был профессиональным физиком-ядерщиком, но я скорее объявил бы себя при необходимости даже профессиональным баритоном, чем отказался от поездки. Мы летели из Парижа в Москву с остановками в Праге и Минске. Я мало что успел увидеть из красот Праги. Это я смог сделать, когда побывал там в 1968 году, и видел своими глазами, как злополучные чехи пьянели от кратковременной свободы. Пока же в 1956 году, они пьянели только от замечательного пльзен-ского пива, приверженцем которого я сам сделался на время этой остановки. Во время перелета Минск — Москва я заметил, что никто из пассажиров не застегивал поясов. Их примеру я последовал поневоле, потому что мой был вырван с корнем. Во время полета я испытал совершенно ненужный дурацкий испуг. Мы летели, очевидно, на небольшой высоте, потому что в салоне не было избыточного давления, но с моего места я не видел земли и рассеянно глядел на висевший на стенке высотомер. И вдруг я заметил, что мы быстро теряем высоту. Вокруг меня никто не обращал на это внимания. Стрелка показывала тысячу метров, затем восемьсот, четыреста, двести. В этот момент стюардесса выскочила из кабины летчиков и пробежала по салону. Я решил, что пришел мой последний час. Стрелка высотомера дошла до нуля и остановилась, но неизбежного, казалось бы, столкновения с землей не произошло, и мы продолжали лететь. Никто, кроме меня, ничего не заметил. Что за дурацкая затея вешать в салоне альтиметры, тем более невротические! В Москве во Внуковском аэропорту, куда мы прибыли вечером, нас встретило официальное лицо и дама, которая оказалась нашей главной переводчицей во время всего пребывания в СССР. Паспортные и таможенные формальности были сведены к минимуму; очевидно, мы были гостями жданными и желанными.(В другой главе я расскажу про прием, который меня ожидал, когда я приехал простым туристом. А сейчас расскажу про прием, который несколько лет спустя, был оказан гостям не столь желанным, как мы, и слишком уверенным в себе. Я сам при этом не присутствовал, но мне рассказал очевидец. Во время международной конференции в Киеве по физике высоких энергий один из участников, американский физик, неосторожно похвастался, что делал работы для Пентагона и даже получил инструкции от специалистов, как предохранять свой багаж от нескромного осмотра. Для этого надо было оставить внутри чемодана в нужных местах несколько волосков или щепотку талька и еще кое-какие приметы, которых он не раскрыл. Самый искусный агент не смог бы осмотреть его багаж незаметно для него. Когда он прибыл в гостиницу, его ожидал чемодан, оба замка которого были просто сорваны, а сам чемодан был перевязан вокруг толстой веревкой, чтобы он не открылся. Я нашел этот инцидент крайне поучительным.)Несколько лимузинов ожидали нас. Мы помчались в Москву по дороге, освещаемой только фарами машин. Наша гостиница "Украина" оказалась высоким зданием уродливого псевдонеоклассического стиля, с широкими коридорами, обширными, но неуютными комнатами и приводящими в отчаяние лифтами. Здесь я хотел бы сделать краткий перерыв и рассказать маленькую историю про Паули, связь которой с тем, что последует, скоро выяснится. Когда Паули читал лекции, рано или поздно он запутывался в своих вычислениях и задумывался. Мне было дано присутствовать на одной такой лекции. В первом ряду сидел физик по фамилии Гус (Guth), сверстник и старый знакомый Паули, который начал ему помогать таким образом: "Сложите первое и третье уравнение, помножьте на два и вычтите третье, и т. д." Паули обернулся к нему: "Слушай, Гус, то, что знаешь ты, я тоже знаю" (what you know, I know). Я описал здесь этот случай, чтобы избежать унижения Гуса, так как собрался рассказать о том, что может заинтересовать западного читателя, но что русские знают гораздо лучше меня. Не мешало бы теперь разобраться в моих чувствах весны 1956 года по отношению к стране, про которую было бы преувеличенно сказать, "где я страдал, где я любил, где сердце я похоронил", но где я провел первые десять лет своего, в общем счастливого, детства. Немного более десяти лет прошло с тех пор, как умолкли пушки, грохотавшие на восточном фронте. Я испытывал безмерную личную благодарность к Красной Армии и к народам Советского Союза. Ценой нечеловеческих страданий они положили конец невыразимым ужасам нацизма — ежедневной угрозе моей жизни и жизни всех тех, кто, если я могу так выразиться, родился под той же звездой, что и я. Эта благодарность умрет лишь вместе со мной, хотя теперь она меня больше не ослепляет. Правда, как раз перед войной был позорный германо-советский договор, раздел Польши и массовые ссылки в Сибирь. Но не спасли ли многих эти самые ссылки, отдалив их от нацистов? И, когда при германской оккупации французские газеты бесновались насчет убийства тысяч польских офицеров в Катыни, кто из нас сомневался тогда, что это было для отвода глаз и что убийцами были сами нацисты? Довоенные, непонятные для нас процессы, террор 37-го и 38 — го годов, ужасы которого никто еще не разоблачал, все это было уже далеко позади. Правда, совсем недавно, в начале 1953 года, было дело "белых халатов", врачей-евреев, обвиняемых в невероятных преступлениях; но ведь Сталин умер, их освободили, Берию казнили, Маленкова и Булганина принимали в Англии как представителей новой современной и умеренной традиции. Один буян Хрущев слегка портил эту идиллическую картину. Так рассуждали представители так называемой "умеренной левой", к которой я себя причислял. Добавьте к этому мое детство и мои счастливые воспоминания. Добавьте еще, что в разгар холодной войны вторая великая держава со своей "охотой на ведьм" (witch hunts), вдохновляемой зловещим сенатором Маккар-ти, казалась вряд ли более привлекательной. Так рассуждала меньшая половина нашей группы, которую вместе со мной можно было причислить к "умеренной левой".Второй частью нашей группы были "верующие". Они веровали в усатого бога, "кремлевского горца", чьи "слова, как пудовые гири, верны". В СССР они восхищались всем безоговорочно, и, если такие маловерные, как я, указывали им на что-нибудь особенно нелепое, у них был один ответ: "Это пока у них не первоочередное". Некоторые из них (не все) прозрели, когда вышел доклад, который (до появления гласности в СССР) орган Французской компартии называл "докладом, приписываемым товарищу Хрущеву".Вместе с этими смешанными чувствами я испытывал сильное любопытство к советской науке, о которой мы знали очень мало. Все еще охмурял всех Лысенко. Последствия этого охмурения были ужасными, как выяснилось позже, но это была биология, более того, ботаника. (Не было ли это скорее спором между агрономами, чем настоящим научным диспутом?) Признаюсь со стыдом, что так рассуждало большинство наших "неверующих". Для "верующих" все было просто: великим биологом был не Дарвин, а Лысенко; его оппоненты были изменниками или, в лучшем случае, несчастными заблуждающимися душами. Но в физике русские, которые взорвали атомную бомбу всего через четыре года после американцев, а водородную еще скорее, были, безусловно, в авангарде, и была очевидна взаимная польза от сотрудничества с ними (что было легче сказать, чем сделать). Лично я не нуждался в грохоте атомных бомб, чтобы быть убежденным в высоком уровне советской физики. Не были ли Фок и Френкель моими первыми руководителями в квантовой механике, не изучал ли я теорию относительности и математическую физику в русских переводах Эддингтона и Куранта? В стране, где такие шедевры имели массовое распространение, уровень физики не мог не быть высоким. Сильнее всего было глубокое волнение, которое я испытывал, ступив на почву страны, где прошло мое детство. В этот первый вечер после роскошного ужина — зернистая икра, осетрина на вертеле, беф-строганов, запиваемые водкой и советским шампанским (на мой вкус нестерпимо сладким) — я решил, несмотря на поздний час, пройтись пешком по Москве. Очевидно, это не было предусмотрено, потому что метров через двести меня догнал запыхавшийся служащий Интуриста и предложил вернуться в гостиницу. Несмотря на поздний час и усталость, я почти не спал первую ночь. Во время нашего трехнедельного пребывания в России мы осмотрели лаборатории, а также музеи в Москве, Ленинграде и Киеве. В Москве мы осмотрели Кремль, мавзолей (где Ленин и Сталин спали последним сном еще рядом друг с другом, но не надолго), разные музеи и монастыри и роскошное метро, чистотой которого я был восхищен не менее "верующих".Вечера были заняты балетами, цирком, театром кукол Образцова, одним словом, всем тем, что может развлечь не знающих языка. Один раз мне удалось улизнуть от осточертевших балетов, чтобы посмотреть "Три сестры". (Маленькое отступление на счет театра Образцова. Много лет спустя он приезжал на гастроли во Францию, и я, конечно, пошел на спектакль. В одном из действий было цирковое выступление дрессированных собачек с очень забавным "подмигиванием" русским эмигрантам: дрессировщица сладеньким голоском по-французски умоляла собачек прыгать через обруч: "Прыгай, милочка, прыгай" (saute chйrie, saute), прибавляя скороговоркой сквозь зубы по-русски: "Прыгай, тварь окаянная". Соседи с удивлением смотрели, как я катался от смеха.) Я нашел свой дом во 2-м Бабьегородском переулке собиравшимся развалиться (однако он продержался после этого еще лет двадцать пять), но не решился зайти во двор. Альбер Мессиа снял меня стоящим перед домом, а рядом раздавались громогласные призывы прохожих фотографировать современные высотные дома вместо развалин. Самым большим удовольствием для меня было гулять по Москве и беседовать с прохожими. Но скоро я убедился, что для них я был загадкой, которая их беспокоила. Этот тип, который, судя по его выговору, был, безусловно, русским, откуда он свалился, если он не знает, сколько стоит билет в метро или телефонный звонок в автомате, где можно переходить широчайшие московские бульвары, как работают машины с газированной водой и тысячу тому подобных мелочей. В магазинах я убедился, что, по сравнению с моими товарищами, чистота моего выговора была не преимуществом, а, скорее, наоборот и скоро догадался коверкать язык, чтобы быть лучше обслуженным (и даже вне очереди). Нас поразило то, что тяжелыми земляными работами занимались женщины. Нередко можно было видеть на улице, как женщины перетаскивают тяжелые булыжники под надзором мужчины (с руками в карманах). "Верующие" говорили, что советская власть раскрепостила женщину. Возможно. Но мне это напомнило анекдот, который рассказывает Шамфор, французский юморист конца XVHI столетия. Регент государства захотел побывать на бале, но так, чтобы его никто не узнал. "Я знаю, как это сделать", — сказал аббат Дюбуа, сообщник всех его сомнительных предприятий, и во время бала стал ему давать пинки в зад. "Аббат, не слишком ли ты меня маскируешь", — возмутился регент. Не подумывают ли советские женщины, таская булыжники, что их слишком раскрепощают? Не будучи физиком-ядерщиком, я не очень интересовался лабораториями, которые нам показывали и которые отличались от западных более кустарной аппаратурой, и (в большинстве зданий) ужасающим качеством того, что впоследствии один из моих сотрудников прозвал "предварительно растресканный бетон." Люди в лабораториях интересовали меня гораздо больше, но, за редким исключением, я нашел их довольно сдержанными. Желая быть им приятным, я считал своим долгом хвалить все, что мне показывали. Боюсь, что меня принимали за "верующего", с которым лучше держать ухо востро. Самым интересным был Институт физических проблем, которым руководил Капица, но Капицы, к сожалению, в то время не было в Москве. В первый раз я увидел оборудование (например, большой ожижитель гелия, построенный самим Капицей), которое могло смело соперничать с любой западной аппаратурой. Там я встретил лучших теоретиков СССР: Померанчука — исключительно оригинального и симпатичного ученого с необыкновенно широким кругозором — и, конечно, знаменитого Ландау, окруженного своими учениками, как Христос апостолами. Я стесняюсь говорить о Ландау со своими русскими читателями: "то, что знаю я, им известно, и сокращу написанное для западных читателей".На западе широко известны книги Ландау, написанные в сотрудничестве с Евгением Лифшицем. Злые языки говорят, что в книгах нет ни одной строчки Ландау и ни одной мысли Лифшица. Это, конечно, абсолютная ложь. Но, как говорится, для красного словца не пожалеешь и родного Лифшица. Я пользовался в свое время их книгами и многое извлек из них. Одно меня удивляет и смущает в этих книгах: полное отсутствие численных и опытных данных. Тем более изумительной кажется мне способность Ландау определять законность приближений. Ведь, за исключением простейших проблем, точных решений в физике не существует. Как же определить качество приближения при полном отсутствии численных оценок? Восхитительно и непонятно! Среди открытий, которые Ландау не сделал, можно назвать двухподрешеточную модель антиферромагнетизма. Как я понимаю, Ландау рассматривал эту модель, но отбросил ее, потому что она не отвечала требованиям квантовой механики. Луи Нееля мало беспокоили требования квантовой механики, которую он, по правде говоря, мало знал, и он смело опубликовал эту модель. Модель оказалась исключительно плодотворной и принесла ему Нобелевскую премию. С квантовой механикой же впоследствии удалось сговориться. Какое заключение из этого можно сделать? Для Ландау — на всякого мудреца довольно простоты, а для Нееля — Sancta Simplicitas (святая простота). Во время нашего свидания с Ландау один член нашей группы, специалист по физической химии, рассказал о своей деятельности, может быть, слишком подробно. Ландау ему сказал: "Я уважаю хорошего химика, как уважаю хорошую кухарку, мастерицу своего дела. Чего я не люблю, так это когда кухарка лезет в философию. Так я себе представляю физического химика". Помню, я был шокирован этим замечанием, более невежливым, чем остроумным, по отношению к гостю, пусть даже действительно с преувеличенным чувством собственной значительности. На всякий случай про свою деятельность я предпочел промолчать. В свои последние годы Паули, которого Ландау особенно ценил, страдал тем же недостатком: заменял остроумие резкостью. Зато юный Паули был обаятелен в своем почтительно-насмешливом отношении к великим учителям — Эйнштейну (как рассказано в главе "Первый взгляд на физиков") и Бору. Однажды он написал Бору о какой-то проблеме, и вежливый Бор сразу ответил: "Спасибо за письмо, по существу отвечу в четверг". Месяц спустя, все еще не получив ответа по существу, Паули написал Бору: "Дорогой профессор Бор, не обязательно писать в четверг, подойдет любой день недели."Один из апостолов Ландау (скажем, Петр) рассказал мне о его привычке импровизировать в конце лекции на какую-нибудь тему, по ходу дела покрывая доску уравнениями, получая новые результаты, которые он открывал одновременно со слушателями. Один раз, находясь в кабинете Ландау, апостол с удивлением обнаружил целый ряд тщательно выписанных уравнений, предназначенных для завтрашней "импровизации". Когда я услышал эту историю, мне пришла в голову мысль о том, что может быть, Ландау делал предварительные численные оценки своих приближений, которые он потом опускал при публикации. Не верю, он в этом не нуждался! Его ученики и сотрудники, с некоторыми из которых мне случалось встречаться впоследствии, испытывали к нему глубокое уважение и искреннюю любовь, но не было ни одного, кому не пришлось бы хоть раз пожаловаться на его жестокую и не всегда заслуженную критику, а порой (как, например, с его учеником Абрикосовым) и на авторитарный запрет публикации. Больше я про Ландау ничего не скажу: "Что знаю я, русскому читателю известно." Добавлю только, что в автобиографии Казимира "Haphazard Reality" (Случайная действительность) есть много забавных историй про его встречи с юным Ландау (одну из них я рассказал в главе "Первый взгляд на физиков"), но я не стану их переписывать здесь, это моя автобиография, а не его. Мы побывали в Московском университете имени Ломоносова, здании, очень напоминавшем гостиницу "Украина", только больше и выше. Нашим "Виргилием" был некий профессор И., скользкий господин, который, очевидно, был в университете важной шишкой. Я к нему еще вернусь. Он рассказал нам про советскую систему высшего образования, про высокий уровень студенческих стипендий и преподавательских окладов. "Верующие" восхищались. Я нашел, что он жонглировал цифрами уж очень ловко, но смолчал. Но когда И. объявил, что студенты выслушивают тридцать пять часов лекций в неделю, что вызвало восторг "верующих", я не вытерпел и спросил: "Когда же они думают?" Мой вопрос был встречен неодобрительным молчанием. Позволь мне, о читатель, перенестись в четырехмерном пространстве на несколько месяцев вперед, в сентябрь 1956 года, и на тринадцать тысяч километров к западу, в американский город Сиэтл (Seattle) на побережье Тихого океана. Позже станет понятно, почему я приглашаю в эту поездку. Именно там проходила тогда громаднейшая конференция по теоретической физике (если память не изменяет, там не было ни одного представителя СССР). Она буквально кишела знаменитостями, включая нобелевских лауреатов, будущих и прошлых: Юкава и Феликс Блох, Вигнер, Ли и Янг, Швингер и Томонага, а также Оппенгеймер, Кондон, Дайсон и многие другие, которых я теперь забыл. Там встретил я одного из самых замечательных людей нашего времени, который заслуживал Нобелевскую премию, по крайней мере, не меньше любого из тех, кого я только что назвал, Георгия Гамова. Гамов, этот эксцентрический гений, родился в Одессе в 1904 году, получил высшее образование в Ленинградском университете и в 1928 году защитил диссертацию. В начале тридцатых годов он покинул родину и больше туда не возвращался. Во время попытки уплыть в гребной лодке из Крыма в Турцию он чуть не погиб вместе с женой, так как поднялась буря. Их спасли рыбаки. Попытка бегства в Турцию морем была столь нелепа, что власти поверили, что они просто катались в лодке и буря унесла их далеко от берега. Его вторая попытка покинуть СССР была успешнее. В 1933 году он получил приглашение на Сольвеевский конгресс (Solvay) в Брюссель. Благодаря протекции Молотова, с которым он, очевидно, был знаком, он получил разрешение взять с собой жену. Но по окончании конференции его ожидал неприятный сюрприз. Ланжевен сообщил Гамову, что разрешение на выезд он получил потому, что он, Ланжевен, дал слово, чтоГамов вернется в СССР по окончании конгресса и что это его долг. Гамов впал в уныние, но ему посоветовали обратиться к мадам Кюри, которая имела сильное влияние на Ланжевена. Она выслушала Гамова внимательно и пообещала поговорить с Ланжевеном. На следующий день она принесла Гамову "разрешение" Ланжевена остаться на Западе. Важнейшее открытие Гамова — количественная теория- альфа-распада и, что еще важнее, связанное с ним общее явление квантового туннелирования, которое играет значительную роль в бесконечном числе физических явлений. Гамов первый предположил, что Вселенная началась с "Биг Бенга", т. е. с начального колоссального взрыва, и первый заговорил о существовании генетического кода. Он также сделал важный вклад в теорию бета-распада. Наконец, он написал серию замечательно забавных популярных книг о физике "Приключения мистера Томкинса". Он был большой шутник. Например, в своей книге о строении ядра, выпущенной издательством Оксфордского университета в 1937 году, он ссылается на публикацию Ландау в несуществующем журнале "Червонный гудок", название которого он выдумал. Когда я рассказал об этом Я.А. Смородинскому, он признался мне, что сам тщетно разыскивал этот журнал в библиотеках. В работе, которую Гамов написал с Альфером, они выбрали соавтором Ганса Бете (не спрося его) лишь потому, что Гамову понравилась комбинация "альфа, бета, гамма". Его книга о ядерной физике переиздавалась два раза. В предисловии к третьему изданию 1947 года он писал следующее (цитирую по памяти): "Сразу после первого издания последовало открытие нейтрона, которое тотчас обесценило мою книгу, сразу после второго издания появилась теория компаундного ядра Бора, сделавшая то же самое со вторым изданием. Прошу рассматривать третье издание как еще одну попытку вызвать новые открытия в ядерной физике." Он не ошибся: вскоре после выхода этого издания появилась теория ядерных оболочек Марии Гепперт-Майер, которая сильно изменила взгляды на структуру ядра. Я познакомился с Гамовым на гигантской Сиэтлской научной ярмарке. Для развлечения участвующих была организована экскурсия на пароходе по Пьюджетскому проливу (Puget Sound), берега которого представляют собой пейзаж необыкновенной красоты. Сразу же после отплытия поднялся густой туман, скрывший берега и заморозивший нас до мозга костей. Капитан, обеспокоенный плохой видимостью (нельзя было видеть дальше кончика носа), пустил в ход что-то вроде сонара и, так как разговоры пассажиров ему мешали, предложил нам (не слишком любезно) заткнуться или очистить палубу, спустившись в каюты. Я последовал его совету и спустился вниз. Внизу, в одном из салонов, полулежал, растянувшись на диване, одинокий, высокий (или, скорее, длинный) блондин неопределенного возраста с высоким бокалом (highball) виски в руке. Это был, конечно, Гамов. Он приветствовал меня на английском языке, на который нельзя было не ответить ему по-русски. Мы проболтали два или три часа, во время которых он сообщил мне о себе подробности, изложенные выше. Он рассказал, между прочим, как была встречена в Копенгагене его теория альфа-распада. Борн возражал против нее на том основании, что она приводила к комплексным значениям для энергии, а это было недопустимо. Гамов пожаловался Бору: "Чего им надо; я даю им правильное решение волнового уравнения, которое правильно описывает все факты, а они капризничают". Позже Борн изменил свое отношение к теории и даже стал самым горячим ее поклонником. Гамов сообщил мне, что только что был награжден премией Калинга (Kalinga Prize) за выдающуюся деятельность по популяризации науки. Премия должна была вручаться в Индии, но организаторы хранили молчание насчет расходов на дорогу, и он сомневался, покроет ли их премия. Я рассказал ему по этому поводу анекдот про игру "угадай-ка" на американском телевидении, где угадавшим заданную загадку вручают призы. Некто выигрывает поездку на Огненную Землю. Организатор спрашивает его: "Не угодно ли вам попытать счастья на обратный билет?" Анекдот привел его в восторг. "Я этот игрок", — сказал он. Гамов был необыкновенно похож на другого выдающегося физика — Невила Мотта. У меня на стене висит фотография того самого Сольвеевского конгресса 1933 года, с которого Гамов не вернулся домой. Что за фотография! Всего там человек сорок и, кого там только нет! Из старших (родившихся в прошлом столетии) Бор, мадам Кюри, Ланжевен, Резерфорд, братья де Бройль, Шредингер, Лиза Мейтнер, Иоффе, Крамере, Чэдвик, Дебай, Ричардсон, Боте. Из младших Гейзенберг, Дирак, Паули, Ферми, чета Жолио, Блэкетт, Кокрофт, Пайерлс, "мой" Фрэнсис Перрен, Гамов рядом с Моттом (как два близнеца) …Сегодня, в 1990 году, только Мотт, Пайерлс и Фрэнсис Перрен еще в живых. В1977 году Мотт получил вполне заслуженную Нобелевскую премию. Но для меня Гамов куда интереснее. Больше я с ним не встречался."Позвольте," — спросит читатель, — "все это, может быть, и интересно, но зачем надо было скакать из Москвы в четырехмерном пространстве в середине разговора?" А вот зачем: я рассказал Гамову о своей поездке в Россию и о встрече с Ландау. Он погрузился в думу, потом сказал: "Нас было трое неразлучных: Ландау, И. да я. Нас звали три мушкетера. А теперь? Ландау — гений, И. — все знают, кто такой, а я — вот где". Он ткнул стаканом в самого себя, развалившегося на диване. Читатель поймет, я надеюсь, что я не смог отказаться от соблазна сблизить еще раз трех мушкетеров, хоть на бумаге. Пока я еще в Сиэтле в сентябре 1956 года, позвольте рассказать про новую встречу с бесподобным Феликсом. Организаторы конференции поручили мне организовать и провести трехчасовую сессию, посвященную радиоспектроскопии. Я должен был собрать предложения желающих участвовать и отобрать достойные интереса доклады. Сначала казалось, что моей главной задачей будет найти достаточно добровольцев, чтобы заполнить три часа. Феликс предложил свой доклад в вагнеровском стиле, о котором я уже говорил не раз. Я приветствовал его предложение с энтузиазмом. Но в своих расчетах забыл про японцев, которых "как пчел из лакомого улья, на ниву шумный рой летит". Пришлось учинить строгий отбор и ограничить каждого докладчика двадцатью минутами. Возник конфликт с Феликсом: осведомленный вовремя о двадцатиминутном регламенте, он потребовал тридцать. Я охотно бы их ему подарил, но не мог потерять лицо перед моими японцами и не уступил. Когда пришла его очередь, я решительно объявил: "Двадцать минут, профессор Блох." — "Но вы же знаете, что это невозможно, дайте хоть двадцать пять." — "Девятнадцать минут профессор Блох". Он чуть не рассердился и едва не покинул эстраду, но раздумал и блестяще уложился в двадцать минут. Покончив с Сиэтлом, вернемся в Москву. Из Москвы мы улетели в Киев. Я запомнил прогулки по Крещатику, заново застроенному зданиями того же сомнительного вкуса, хотя меньшего масштаба, чем в Москве, и экскурсию нашей группы по Днепру на роскошных быстрых моторных катерах, подобных которым я видел до сих пор только в голливудских фильмах. Потом вернулись в Москву; несколько дней пробыли в Ленинграде, куда ездили поездом. "Люблю тебя, Петра творенье". Кроме этого, читатель, ты у меня о Ленинграде ничего не добьешься. Мы встретились там с ленинградскими теоретиками, которые-де не знали, есть ли в Ленинграде ускорители Ван де Граафа или циклотроны. Такая неосведомленность поразила даже наших "верующих". Из Ленинграда снова вернулись в Москву, где наше пребывание было увенчано банкетом, который стал поводом для забавной сценки. Старший нашей группы, физик-ядерщик Розенблюм, тот самый, в чьей лаборатории десять лет тому назад у меня был плачевный опыт с вакуумной камерой, произнес благодарственную речь. По-8 А. Абрагамнескольких фраз он остановился для того, чтобы переводчица перевела на русский язык. Когда переводчица умолкла, Розенблюм (уроженец России и хорошо говоривший по-русски) п0 инерции, рассеянно, продолжил по-русски. Переводчица не растерялась и перевела на французский, а Розенблюм продолжил по-французски. Так они преследовали друг друга то одном языке, то на другом, среди всеобщего хохота, к которому не присоединился лишь бедный Розенблюм, ничего не заметивший. В связи с темой переводов скажу еще, что у нас было три переводчицы, но одна из них всегда безмолвствовала. Она мне объяснила, что от автомобильной езды ее страшно тошнит; чуть только она успевала прийти в себя после одной поездки, как начиналась другая, и она была неспособна переводить. В Киеве ей повезло: наша гостиница находилась так близко от Института по~ лупроводников, что мы пошли туда пешком. Мы уселись, директор произнес несколько слов приветствия, и наша обычная переводчица начала: "Nous sommes dans l'Institut des semi-conducteurs…. Вдруг громкий голос ее поправил: "demi-conducteurs. Это загово' рила наша "переводчица валаамова". Все на нее оглянулись, она покраснела, как свекла, и, как Казбек, навек затихла. КарьераВ пору в горуЗаморские посулы. — Великаны и истуканы. — Или ты, или тебяХотя чистая наука, сосредоточенная в Институте фундаментальных исследований (ИФИ), давно уже стала полноправной частью программы КАЭ, вначале это было не так, и во время моего пребывания в Гарварде в 1952-1953 годах мне порой приходила вголову мысль о научной карьере в США.
За это время у меня были две возможности остаться в Америке. Через несколько месяцев после моего прибытия Гарвард предложил должность лектора (Lectureship) на два года. После этого мне обещали должность доцента (Assistant Professor) на срок пять лет. Затем, по гарвардскому правилу "вверх иди Вон" (Up or Out), следовал или уход, или повышение до постоянной должности экстраординарного профессора (Associate Professor). Доценту с малыми надеждами на повышение тактично намекали по истечении трех лет, что не мешало бы начать искать другое место. Венцом карьеры был ординарный, или полный, профессор (Full Professor). К концу моего пребывания пришло второе предложение от j$e-стингауза (Westinghouse). Эта гигантская фирма желала создать (или, вернее, воссоздать) новейшую научную лабораторию в области магнетизма, низких температур и резонанса. Очевидно, слухи о моих скромных успехах в Оксфорде и Гарварде дошли до них. Они пригласили меня приехать в Питтсбург, чтобы обсудить их предложение. В Питтсбурге меня приветствовал сам директор отдела всех научных исследований Кларенс Зинер (Clarence Zener), физик с более чем приличной репутацией в области физики ТВе