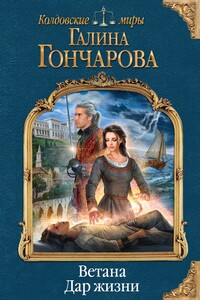В рассматриваемый период – примерно до середины 1960-х – появляется множество песен, так или иначе фиксирующих ход времени: здесь тематизируется не просто переживание субъективной погруженности в неупорядоченную стихию темпорального, но наличие устойчивого и объективного порядка, которому эта стихия подчинена. Заботы, дела, дружный труд; эталонное «московское время», по которому живет и трудится народ; пути и дороги, которые мы прошли и которые нам еще предстоит пройти; эстафета поколений – все это можно назвать одним словом – «жизнь». Для советского человека, в отличие от нас, сегодняшних, «жизнь» ни в коем случае не является эвфемизмом для обозначения чего-то, выходящего за последние пределы человечности, чего-то несправедливого, уродливого, каких-то не имеющих адекватного выражения в человеческом языке темных страстей и отвратительных проявлений. Жизнь – это исполнение, перформанс Большого времени в коллективном советском теле. Жить – значит «слушать время», слушать буквально, так, как оно явлено в советской песне, и дружно шагать туда, куда оно зовет.
Жизнь – это еще и преодоление смерти. В советской песне «классического» периода жизнь, преодолевающая смерть, – это, во-первых, Память, а во-вторых, Юность или Молодость. Именно обобщенная песенная формула памяти предельно наглядно обнаруживает метафизический образ времени – в той мере, в какой время является также и Большим временем, конституирующим «советское» как таковое. Это формула различия памяти как забвения и памяти как собирания и обретения. Советская модель памяти строится на отождествлении памяти-забвения с личной памятью, а памяти-обретения – с памятью коллективной, народной. Противоположная советской – назовем ее буржуазной – модель памяти, напротив, отождествляет массовую, социальную, объективированную и овеществленную память с памятью-забвением, а память частную и субъективную – с памятью-обретением.
Критики советской эпохи, усматривающие в «советском» прежде всего ложь, страх и унижение человеческого достоинства, могут быть правы в частностях, однако они упускают из виду главное – самоопределение советского человека как алчущего и жаждущего правды и находящего эту правду в обновляющей стихии темпорального. Все дело в том, что критики советского воспроизводят в своих рассуждениях принципиально иную, «буржуазную» модель памяти и времени. В рамках этой модели интерсубъективная, объективированная память представлена в форме музея – мертвого хранилища исторических и культурных ценностей.
Музей сам по себе ничего не транслирует: он является всего лишь удобным инструментом государственной идеологии. У буржуазного индивида музей – в широком смысле совокупного культурного продукта человечества, поддерживаемого в состоянии хотя бы минимальной актуальности (в отличие от запасника), – не вызывает доверия: неустранимая случайность в подборе «артефактов» и в их сочетании служит поводом к подозрению в «манипуляциях» со стороны менеджера музея – государства. Буржуазный индивид отказывается воспринимать музей как целое, – как общую для всех культурную почву, – его интересуют только отдельные артефакты, только частности и детали, только то, что отклоняется, а следовательно, не вписывается в навязываемый образ единства. Именно в «авторитарном» конструировании исторического и культурного единства, в пренебрежении к особенному и не охватываемому системой категорий потребитель и усматривает ту самую «стратегию забвения», которая делает музей местом лжи и манипуляции.
Очевидно, что единственным способом пробиться сквозь «тотальность беспамятства» к чему-то в высшей степени специфическому и потому живому становится для индивидуалиста-потребителя образ его взаимодействия с собственным прошлым, его персональная память-обретение. Буржуазная личная память устроена наподобие камеры-обскуры: она выхватывает из прошлого – точнее, из резервуара переживаний и эмоций, которые так никогда и не становятся чем-то окончательно прошлым, – некий момент, который делается предметом созерцания, имеющего целью полное, детальное воспроизведение и