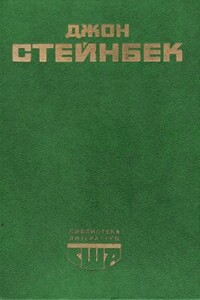Такой метод работы имеет смысл, когда целью является, а это так всегда и было, реконструкция прошлого, придание ему свежего и злободневного вида. Но намерение Пруста прямо противоположно: он не желает, прибегая к помощи памяти как поставщика материала, реконструировать былую реальность, но, напротив, он желает, используя все вообразимые средства - наблюдения над настоящим, размышления, психологические выкладки, - смочь воссоздать собственно воспоминания. Итак, не вещи, которые вспоминаются, но воспоминания о вещах - главная тема Пруста. Впервые память из поставщика материала, с помощью которого описывается другая вещь, сама становится вещью, которая описывается. Поэтому автор обычно не добавляет к вспоминаемому того, чего ему не хватает, он оставляет воспоминание таким, как оно есть, объективно неполным, - и тогда и возникают в призрачном отдалении изувеченные временем несчастные калеки.
У Пруста есть поразительные страницы, на них говорится о трех деревьях, что растут на склоне, - за ними, помнится, было что-то очень важное, да забылось что, выветрилось из памяти. Автор напрасно силится вспомнить и воссоединить уцелевший обрывок пейзажа с тем, что уже не существует: только трем деревьям удалось пережить крушение памяти.
Таким образом, романические темы для Пруста всего лишь предлог, и как через spiracula, отверстия в улье, через них вырывается наружу растревоженный рой воспоминаний. Не случайно он дал своему произведению общий заголовок "A la recherche du temps perdu"[3]. Пруст предстает исследователем утраченного времени как такового. Он наотрез отказывается навязывать прошлому схему настоящего, практикуя строгое невмешательство, решительно уклоняясь от какого-либо конструирования. Из ночной глубины души отделяется, воспаряя, воспоминание, и это похоже на то, как в ночи над горизонтом загорается созвездие. Пруст удерживает желание восстановить воспоминание и ограничивается описанием того, что сохранилось в памяти. Вместо того чтобы реставрировать утраченное время, он довольствуется созерцанием его обломков. Поэтому можно сказать, что жанр Memoires[4] у Пруста обретает достоинство чистого метода.
Мы говорили о временном порядке. Но еще больше ошеломляют его открытия в области порядка пространственного. Не раз подсчитывали количество страниц, понадобившихся Прусту для того, чтобы сообщить, что бабушка ставит градусник. Действительно, невозможно говорить о Прусте, не упомянув о его многословии и растянутых описаниях. И однако это тот случай, когда растянутость и многословие перестают быть недостатками, превращаясь в два могучих источника вдохновения, в авторских муз. Прусту не обойтись без растянутости и многословия уже по тому простому соображению, что он ближе обычного подходит к предметам. Ведь Пруст был тем, кто установил между нами и вещами новое расстояние. Это немудреное нововведение дало, как я уже говорил, ошеломляющие результаты, - прежняя литература в сравнении с творчеством этого упоительно близорукого таланта кажется обзорной, кажется литературой с птичьего полета.
Дело в том, что для удобства нашей жизни каждая вещь является нам на определенном расстоянии, на том расстоянии, с которого она наиболее привлекательно выглядит. Тот, кто хочет хорошенько разглядеть камень, приближается к нему настолько, чтобы мочь различить прожилки на его поверхности. Но тот, кто пожелал хорошенько разглядеть собор, вынужден отказаться от рассмотрения прожилок и должен, отойдя подальше, распахнуть свой горизонт. Этими расстояниями заведует та естественная целесообразность, которая властвует над всей нашей жизнью. И все же поэты ошибались, когда считали, что расстояние, пригодное для реализации жизненных планов, пригодно также и для искусства. Прусту, вероятно, наскучило любоваться изображением руки, выглядящей уж слишком скульптурно, и он наклоняется над ней, она заполняет весь горизонт, и он с изумлением различает на первом плане поразительный пейзаж с пересекающимися долинами кожных пор, увенчанных сельвой волосяного покрова. Естественно, это метафора, Пруста не интересуют ни руки, ни вообще телесность, а только фауна и флора внутреннего мира. Он утверждает новые расстояния по отношению к человеческим чувствам, ломая сложившуюся традицию монументального изображения.