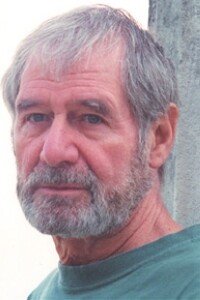Сойдясь с ним из расчета, она ушла к другому сразу после окончания вечернего института. Ушла запросто, как будто сделала нечто всем понятное, всеми оправданное. Хотя и пыталась отсудить дочь, но что-либо похожее на сожаление, на угрызения совести ее не беспокоило. Тогда он воспринял ее уход как следствие чьего-то влияния, не мог представить, что она была такой же и когда он жил с ней под одной крышей, спал рядом, ласкал ее, умилялся ее беременностью… Это теперь он хорошо присмотрелся к этой подлой породе людей, а тогда был уверен, что они бог знает где — такие, которых ни честь, ни совесть и никакие другие соображения не останавливают на распутье. Вот она, полюбуйтесь. Разве такую что-нибудь проймет?.. Разве эту самодовольную физиономию тронет сомнение в своей правоте?.. Другая бы сгинула с глаз долой, а эта ходит и ходит — только чтобы лишний раз напомнить ему о своей причастности к жизни дочери, а точнее — о праве на половинную долю того, что ему дороже всего на свете!.. Запретить ей ходить он не может, но и не стесняется с ней — не выбирает слов, выговаривая за всякую малость, скажем, за то, что вернувшаяся от нее Юля провоняла табаком. Он не сдерживал себя и при посторонних, как бы давая понять, что и в глазах всех остальных людей ей та же цена, что и в его собственных. Так было и через пять, и через десять лет, так оставалось и по сей день. Однажды ее проняло — к вящему его удовольствию.
«Я прихожу реже редкого и всегда не вовремя!»
«Ну и что?»
«Ничего. Хоть бы на людях вел себя приличнее, не срамился».
«Ай-яй-яй!.. Как же это я? Неужели осрамился?.. — дурашливо запричитал Павел Лаврентьевич и, после небольшой паузы, заговорил в привычном тоне: — И как язык поворачивается!.. Можно подумать, это я, а не она, сбежал из семьи, не мне, а ей доверили воспитывать дочь!..»
«Тебе, тебе!.. Где уж мне было тягаться с твоим положением и твоими защитниками!.. Тут бы и царь Соломон за тебя проголосовал!.. Только пора бросить ворошить старье, и если уж не по-дружески, так хоть по-людски разговаривать».
«Не нравится — не ходи! А пришла — не взыщи, говорю, как умею».
«Ты умеешь и по-другому, это со мной превращаешься в злобного дурака».
«Ишь ты! Мы злобные дураки, а вы, значит, добренькие умники!.. Вас поманил эстрадный горлодер-микрофонщик, вы и побежали задравши хвост — от большого ума!»
«От ума или не от ума, а мне было двадцать, когда мы сошлись, а тебе почти сорок!..»
«Можно подумать, тебя за шиворот волокли, выходить за меня принуждали, сиротиночку!..»
«Нет, нет! Какое это принуждение, если я жила в комнате, которую мать разделяла надвое простыней — там она с отчимом, тут мы с сестрой, взрослые девушки!.. Где тут принуждение, если самым нарядным платьем моим была форменка, которую выдавали продавщицам!.. Разве это принуждение, если у меня не хватало смелости отказаться от твоих подарков!.. Какое это принуждение, если я была на третьем месяце, когда мы расписались!..»
«Так, так, так!.. С нами, выходит, по нужде, а с микрофонщиком по душе?.. И как живете-можете, поди, в любви и согласии? Ребятишек народили, в люди вывели?.. Что, заело?.. Так-то, уважаемая! Микрофонщик покукарекал, потерся, да и поминай как звали, а что в итоге?.. Ни хрена в итоге!..»
«Ну и ладно… Зато ты преуспел… в труде и личной жизни. Вот и радуйся, за что на других-то кидаешься?..»
«За что? Да я только и жить начал, как Юлька родилась! От радости себя не помнил, думалось — это ради нее я и бедствовал, и по госпиталям валялся! Другой награды мне и не надо было!.. А ты, умница, зачем родила? Чтоб кормушку не потерять, пока на учебу бегала?.. Сорок лет, говоришь? А что из них я четыре года воевал, а потом десять крышу над головой зарабатывал, чтоб было куда жену привести, это, значит, ни в честь, ни в славу?.. — И, подавшись к ней через стол, он зловеще прошептал, пронзив ее немигающими глазами, как вилкой о двух концах: — Свидетели, говоришь? Цари-косари?.. Да если бы Юльку у меня отобрали, я бы тебя удавил где-нибудь в подворотне, гнида ты кошачья!..» Заметив оторопь Регины Ерофеевны, он удовлетворенно откинулся на спинку кресла. В сущности, последние слова содержали все, что он хотел сказать, ничего больше и не следовало говорить. С тех пор как она бросила его, Павел Лаврентьевич думал о ней как о бесчувственном животном, с которым только так и надо говорить, которое попросту не способно понимать какие-то другие слова.