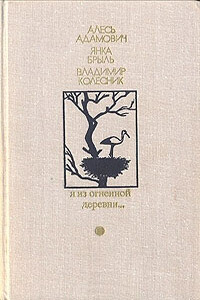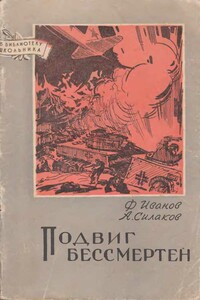И то, и другое, и третье. Однако, наверно, и еще что-то. Судьба, самая грозная и самовластная, становится покорным «материалом», всего лишь материалом когда человек, когда писатель не теряет творческую волю и вопреки всему продолжает работать. Не самообман это? Вряд ли, потому что последнее слово очень часто остается как раз за словом, а не за делом, событием. Слово — это история, а хозяин над событиями — все же история, будущее...
***
Пишет Максим Горецкий в этот, сразу после фронта, период свои особенно тонкие по рисунку, настроению рассказы: «Литовский хуторок», «Деготь», «Черничка», «Ходяка», «Генерал», «На этапе» и др.
Нечто, хочется сказать, «богдановичевское» есть в эстетической выверенности каждого из этих рассказов, в очевидном наслаждении от самого процесса писания, творчества.
«Литовский хуторок», написанный в 1915 г., опубликованный в 1920 году (газета «Беларусь»),— первая значительная попытка Горецкого писать уже не «дневниковую войну», а литературное произведение о войне. (А для того чтобы и «дневник» стал восприниматься самим автором как самостоятельное литературное произведение, для этого необходимо было какое-то время.)
В «дневнике» все время за образом автора (батарейца, белорусского интеллигента, начитанного литератора Горецкого), за этим образом возникает, стоит, просматривается крестьянин. Но лишь просматривается.
Во взгляде, в оценках...
«Деревня называется Плятен. Бегают брошенные хозяевами лошади... И как-то странно: поймали чужую крестьянскую кобылу на дороге, и стала она нашей»
«Ночь я пересидел в ямке, которую подкопал в спуске сухой канавы и выстлал льном с поля, обидел какого-нибудь несчастного жмудина».
«Маслов, наверное, не из крестьян, потому что слишком некрасиво вел себя со старым хозяином хаты...»
Рассказ «Литовский хуторок» — это как бы те же впечатления, что и в «дневнике», только здесь применен, использован «литературный прием»: уже глазами крестьянина показывается война, через крестьянскую семью, хату. Уже последовательно крестьянское восприятие той самой войны.
«— Неужели сюда, на мой хутор, может прийти германец? Неужели здесь, на моем родном поле, около хаты моей стрелять будут? И вот здесь лежать будут убитые? Нет, не может этого быть! Ведь что тогда? — вот из-за чего млело сердце у старика».
А солдаты идут и идут.
Литовец Ян ничего не понимает.
Вчера он роздал много хлеба и сала. Так, по-христиански, без денег. И самому приятно было... Только почто все рушат. Без войны глумятся.
Крестьянин, да еще язык плохо понимает — особенно беспомощен, почти детский взгляд на то, что надвинулось, что происходит.
Прием такой — показать войну глазами человека не военного — стал классическим после Бородинского боя Пьера Безухова. Подчеркнуто штатский человек путается под ногами у батарейцев, не знает, что к чему,— а это дает автору возможность, с одной стороны, необычно приблизить войну к глазам читателя, а с другой — подчеркнуть спокойный героизм солдат.
Но там иная была война — все-таки народная, освободительная.
А здесь — чужая, непонятная народу. И подчеркнуто, выражено это особенно через то, что войну мы видим глазами крестьянина, который ко всему еще и языка армейцев не понимает, литовец.
«Ян перекрестился и зашел за угол, прислонился к стенке. Слышно было, как за горой словно кто-то хлопает или бабы вальком белье бьют, поначалу редко и кое-где: тах! тах! А затем все чаще и чаще, и посыпалось мелко, словно горох об стену: хлоп-хлоп-хлоп!
— Из винтовок,— сказал сам себе старик.
Сердце стучало. Слышно: заработал пулемет, ровно и долго «тра-та-та», а со стороны и позади, во рву, куда вчера артиллеристы таскали доски, кругляки и жерди, послышалась в тишине резкая, громкая команда:
— О-один патрон, беглый огонь!
Сразу, оглушая, тарарахнул залп всей батареи. Ян себя не помня вбежал в хату, остановился, словно обдумать что-то хотел, и снова выбежал за ворота.
— Ведь это свои... чего бояться.
И затем уже весь день, до конца боя, старик не мог опомниться, и прийти в себя, и стать самим собой, таким каким был всегда. Словно пелена какая-то заслонила глаза, словно во сне все плыло в прорву времени, но ни на минуту не оставляло мучительное чувство ожидания конца боя, ожидания ночи и непонятная тревога за себя и за жену с дочерями и за своих солдат».