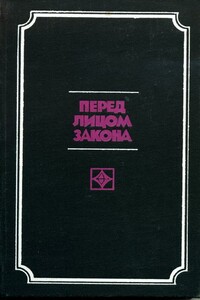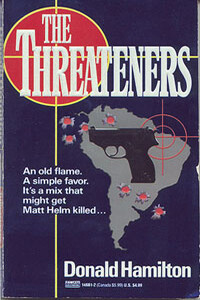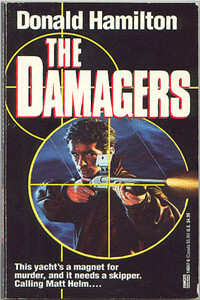Он отмечал сутки царапинами на стене. С 14 июля таких царапин уже накопилось одиннадцать. 26 июля в неурочный час между обедом и ужином, когда Брокман лежал на койке, закинув руки за голову, — в двери камеры неожиданно загремел ключ. Именно загремел, хотя в обычное время, когда приносили еду, звук открываемого замка, который был хорошо смазан, воспринимался совсем не громким.
Брокман рывком вскочил на ноги и застыл, вытянув руки по швам и сжав кулаки. В его позе не было воинственности — одно напряжение.
Дверь отворилась. В камеру вошел Михаил Тульев…
Что испытал Брокман при этом появлении, словами передать невозможно. Михаил видел, как гладкий сухой лоб Брокмана вдруг покрылся крупными каплями пота, капли слились, и пот побежал вниз, на глаза, а Брокман смотрел не мигая, и его неподвижный взгляд был пуст.
Михаил прикрыл за собою дверь и стал перед Брокманом в трех шагах. Так они стояли долго, не менее минуты. Наверное, если бы в это время раздался взрыв или к лицу Брокмана поднесли бы горящую спичку, он ничего бы не почувствовал, не услышал. Он был в шоке.
— Здравствуй, — сказал Михаил.
Брокман молчал. Михаил обошел его, сел на табуретку к столу. Брокман повернулся к нему, как манекен, и лицо у него было как у манекена.
— Ты меня узнаешь? — спросил Михаил.
— Мишле, — тусклым, совершенно без всякого выражения голосом сказал наконец Брокман. Он вспомнил фамилию, под которой Монах представил Михаила при их официальном знакомстве перед отъездом в Швейцарию. Настоящей фамилии Брокман, должно быть, так и не узнал.
— Садись, поговорим, — сказал Михаил.
Брокман послушно сел на койку, не сводя с него немигающих глаз. Михаил вынул из кармана сигареты — французские «Голуаз», крепкие, их он всегда предпочитал другим. Это была последняя пачка из привезенных им.
— Кури.
— Почему?.. — явно не услышав его, спросил Брокман. Понятно, что он хотел сказать: «Почему ты здесь?»
Михаил сказал:
— Я приехал домой.
Брокман наконец вышел из шока.
— Кто ты, Мишле? — спросил он почему-то шепотом.
— Советский разведчик.
— Ты работал на них?
— Говори нормально, — сказал Михаил. — Успокойся. Что-то ты сдавать начал.
— Ты советский? — Брокман никак не мог уложить это в своей голове.
— Я уже сказал: ты плохо соображаешь.
— Ох, кретины, какие кретины! — Облокотившись о колени, Брокман обхватил голову руками и застонал.
— Ты сейчас, как в Гштааде, — сказал Михаил. — Помнишь, когда увидел тех типов, от Алоиза?
Это подействовало на Брокмана так, словно ему дали понюхать нашатыря.
— Зачем тебя ко мне прислали? — подняв голову, спросил он совсем другим тоном, уже готовый к сопротивлению.
Михаил посмотрел на него, не скрывая презрения.
— По делу. Но я и сам бы тебя навестил.
— По-дружески? — усмехнулся Брокман.
— Ты, оказывается, еще и свинья, — сказал Михаил. — Память у тебя хорошая, а Гштаад забыл?
— Спасибо хочешь услышать?
— Тебя бы уже давно черви съели, но я не об этом. — Михаил прикурил сигарету от зажигалки, затянулся раз, другой. Он хотел быть поспокойнее. Оторвал от пачки кусок плотной обертки, свернул на пальце кулечек — для пепла. И сказал: — Помнишь, ты рассказывал в Гштааде, как людей на тот свет спроваживал?
— Я врал, фантазировал, — зло ответил Брокман.
— Может, и так. Но про старика, которого железкой в висок, — это ты не врал. Фамилию его не помнишь?
Брокман не понимал, почему вдруг речь зашла о каком-то старике, которого он когда-то убрал между делом и давно забыл о нем и думать и фамилию которого действительно не мог вспомнить. А когда Брокман чего-нибудь не понимал, он сразу терял почву под ногами. Он не знал, что говорить этому Мишле, который оказался совсем не Мишле.
— Я тебе напомню, — сказал Михаил. — Фамилия старика была Тульев, Александр Тульев. Это мой отец.
Брокман помолчал, соображая, и снова сник.
— Но это чистая случайность… я же не знал…
— Скотина.
Последнее слово Михаил произнес тихо, как будто не для Брокмана, а для себя. И он совсем не ждал того, что произошло дальше.
Брокман повалился на койку, закрыл лицо руками и заплакал. Он всхлипывал, плечи его вздрагивали.
Михаил встал и начал ходить между столом и дверью, время от времени взглядывая на Брокмана, на его вздрагивающие плечи. Он был взволнован. Когда плачут такие, как Брокман, — это не пустяк, это не всякому дано увидеть. Не потому он лил слезы, что ему напомнили о давнем преступлении. Что для него какой-то старик, хотя бы и оказавшийся отцом человека, спасшего ему жизнь? Так, частный случай. Над всей своей изломанной, страшной жизнью плакал Брокман. И, как тогда, в курортном городке Гштааде, Михаил почувствовал к нему странную, смешанную с презрением, горькую жалость. И вновь, как тогда, подумал, что сам мог бы попасть в такое положение, не окажись к нему судьба чуть милостивее. Михаил остановился перед койкой. Брокман теперь не всхлипывал, он только тяжело дышал.