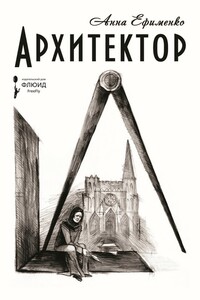Немедленно отправились повидать прочих здешних «русаков».
…Когда он впервые увидел ее в свои лет двенадцать, это было невеликое ростом существо с напряженным и диковатым взглядом темных глаз. А когда маленькая кузина улыбалась, то оказывалось, что глаза у нее совсем взрослые и еще более тоскующие.
В ранней юности пятилетняя разница в возрасте — это много, почти непереходимая черта, за которой, с одной стороны, должно быть, — куклы и ленточки, неразбуженный разум, с другой — тираноборство по Шиллеру и философские чтения. Он подолгу не видел «новенькую кузину», то есть не слишком поначалу заинтересовался ею… Знал из случайно слышанного, что она дочь недавно умершего дяди и жившей у него в доме отпущенной крепостной Аксиньи, тот не сразу приблизил к себе ее детей. После смерти дяди дом на Тверском бульваре перешел к сестре его и отца Герцена — княгине Хованской. Женщина с детьми должна была куда-то перебираться.
Старая княгиня стояла на парадной лестнице, непосредственно подле своего портрета в молодые годы: тяжелые драпировки из бархата и не менее тяжкой красоты лицо с прельстительными грешными глазами… Да, ее несколько зловещее цветение помнили многие, теперь же она стала старухой с трясущимися руками, сухой, мнительной и набожной, последнее в пределах светских приличий, но ханжески и въедливо. Княгиня доживала век с крепостными ключницами и с приживалками — заведомо низшими, не смеющими возразить. В передней, внизу, в ту минуту копошилась с баулами и детьми съезжающая Аксинья Ивановна. Взгляд княгини привлекла малышка с неподвижными огромными глазами. Девочку оставили в доме.
Она жила «в питомках» у Хованской, так же как и Александр значился воспитанником своего отца, и даже, как они потом выяснили, оба они родились на одном диване в этом особняке на Тверском бульваре…
Штат мамок и ключниц следил за здоровьем девочки, одергивал и наушничал, на том и кончалось воспитание. Никто не затруднился даже сообщить ей о судьбе ее семьи. Она росла всем чужая здесь, рано начала сознавать свое положение, грустила и читала без разбору; в библиотеке здешнего особняка было немало книг — весьма сложных, и никто бы не поверил, что их может читать и понимать ребенок, девочка.
Сверстница и родственница Александра Таня Кучина сказала ему как-то: «А ведь маленькая кузина — гениальное существо!» И тогда он увидел ее другими глазами… А Наташа говорила о том времени: «Еще ребенком я любила тебя без памяти!» Он изредка заезжал в дом тетки и с чувством жалости, родства и легкой виноватости (забывал о ней в своей бойкой студенческой жизни) видел, как вспыхивает скрытная и тихая кузиночка от радости видеть его, но чаще — в его же присутствии — от шпыняния и попреков… Ее жизнь была унизительнее и труднее его.
Горничная Аграфена однажды сказала ей, что ее мать умерла; должно быть, такую версию считали воспитательной: жила беспутной жизнью — и умерла; потом, уже подростком, Наташа поняла по случайной обмолвке, что родные ее живы, но увидеться с ними ей долго не позволяли (социальная бездна), пока она не пригрозила голодовкой. Увидела наконец мать и сестру — почти чужих по прошествии лет…
Что-то запекается внутри при таком житье: исступленное, готовое к отпору и… беспомощное сознание своего сиротства, стремленье привязаться к кому-то за пределами своей тюрьмы, а главное — в душе поселяются мечты о другой, непохожей жизни. Она ведь не жила, не радовалась в детстве…
И после, когда они объяснились с Александром в письмах и она ждала его из владимирской ссылки, однако неизвестно было, когда придет избавление — их свадьба, едва ли не труднее приходилось ей, в ее повседневной домашней пытке… Хованская решилась даже не поскупиться на приданое воспитаннице, лишь бы только оборвать ее отношения с племянником, которым была недовольна. Один и потом другой женихи пребывали в недоумении, видя несогласие питомки. (А ее едят поедом). Натали, видя, что те, кажется, честные люди, решилась тайком объясниться с ними в том, что любит другого. С попреками и угрозами ею был выигран год и другой, но каково все это…