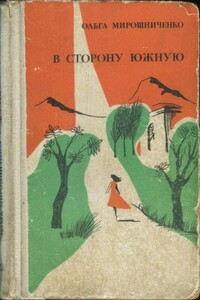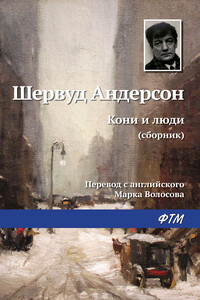— Что ж ты мне-то жалуешься? — пряча смущение, шутливо ворчит полковник. — Ругайся вот с Петром Васильевичем. Подумаешь, франт! У дьявола из лап вырвался, а теперь заладил: дайте зеркало!
— Петру Васильевичу я очень благодарен, честное слово. Верочка мне рассказала, какой это был поединок со смертью…
— Женские сентименты! — ворчит Петр Васильевич, укоризненно косясь на медсестру. — Какой там поединок! Просто вам не хотелось умирать, вот и все. Врач тут ничего не мог сделать, это природа сыграла добрую шутку. А вы, юноша, вместо того чтобы благодарить ее, ноете.
— Скажите, буду я опять летать?.. Боюсь, что бортмеханик меня испугается, вот как вы, товарищ полковник, — не отстает Скала.
— Как ты думаешь, мне зря дали звание Героя Советского Союза? Не такой я пугливый. Чтобы я испугался пары шрамов на лице! Ты их получил в бою, а это у всякого разумного человека может вызвать только уважение.
— Неразумных будет больше, — Скала старается подавить горькую улыбку.
— Эх, сокол, сокол, странно слышать мне это! Прежде надо выиграть войну, разгромить врага, а потом думать о красоте. Верно?
— Верно, господин полковник.
— Товарищ полковник.
— Извините, привычка, — смутился Скала.
— Понимаю. Привычка и устав. В вашем корпусе, что сформирован здесь, тоже так положено обращаться. Ну, что, — дружески улыбается полковник и присаживается на край постели. — Скучаете по самолету?
— Скучал бы, не будь другой заботы, — понурившись, отвечает Скала.
Полковник спешит переменить тему:
— Слушайте, капитан, я понимаю, вам об этом не очень приятно говорить, но, знаете ли, мне, старому летчику, интересно: хорошо ли вы помните подробности своей аварии?
— Иногда я будто заново ее переживаю, — оживляется Скала. — Помню, взяли мы тогда курс на восток. Нервы у всех напряжены до предела. Летим на одном моторе, ревет из последних сил. Долетим, думаю, или не долетим? Все приготовились к прыжку, и каждый знает, что прыгать не станет. Летим низко, бьют зенитки, неясно кто: немцы ли, ваши ли… И вдруг толчок, наткнулись на что-то, наверное, на ваше воздушное заграждение. Последнее, что помню: море огня, в нем черная дыра — мое последнее спасение. Что было дальше — не знаю, очнулся в госпитале.
— И очень нескоро, — добавляет Верочка.
— Не вмешивайся в мужские разговоры! — одергивает ее полковник. — Двое летчиков не прочь выпить, а вы одного поите спитым чаем, а другой вообще погибает от жажды у вас на глазах.
— Сходите за стаканами, Верочка, по сто граммов я им разрешаю. А я принесу бутылочку столичной.
— Слушайте, Георгий Иосифович, — говорит полковник, оставшись наедине со Скалой. — Я постараюсь, чтобы вы попали в нашу авиацию. Но только при одном условии. Бабские настроения там не нужны, так что забудьте, черт подери, о своей физиономии!
Скала вздыхает и говорит скорее себе, чем полковнику:
— Лучше было бы не скрывать от меня.
— Черт бы тебя взял, парень! — сердится полковник. — Ничего не соображаешь! Будь у тебя смекалка, ты и забинтованными руками мог бы приоткрыть окно и увидеть себя в стекле. Вот так.
Он приоткрывает оконную раму.
— Открывайте, полковник, открывайте! — Голос Скалы звучит почти весело. — Я зажмурю глаза, а потом, наверное, увижу совсем незнакомое лицо. Пусть! Неизвестность хуже всего.
Вопль ужаса вырывается у Скалы.
— Ну, что ты? — полковник удивлен и смущен. — Спятил, что ли? Скажи, пожалуйста! Вот и помоги человеку, — ворчит он, и распахивает дверь в коридор. — Сестра, сестричка! Пациент потерял сознание!
— Что ж ты, братец, — бормочет через несколько минут Петр Васильевич, склонившись над Скалой. — Ну и глупость ты сотворил, товарищ полковник. Чуть не убил человека… Это не просто обморок, — обращается он к медсестре. — Опять у него подскочит температура, а организм и без того ослаблен… А тебе я вот что скажу, — он в упор глядит на огорченного полковника. — Теперь ты должен устроить этого парня в армию, даже если бы тебе пришлось просить об этом правительство!
Снова этот стоглавый дракон! Срубишь одну голову, вырастают две…
Эржика… Эржика входит на цыпочках в палату и молча, как тогда, в первый раз, ложится к нему в постель. Иржи, юноша, еще не знавший женщин, вздрагивает от упоения. Страстные, безмолвные ласки, дыхание захватывает от наслаждения, тело напрягается до судорог. Потом белая рука Эржики тянется за сигаретой. Такая у нее привычка. Всегда она приносила ему свое алчущее ласк тело и коробку сигарет. Вспыхивает спичка. И вдруг вопль, ужасный вопль, который Иржи уже где-то слышал. Это она кричит? Нет, нет, он уже понял. Это он сам закричал, увидев в оконном стекле неживую лоскутную маску, местами синевато-красную, местами серую или желтоватую, мертвенную и особенно страшную потому, что на ней живут только глаза и зубы…