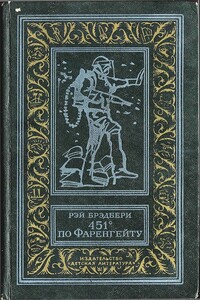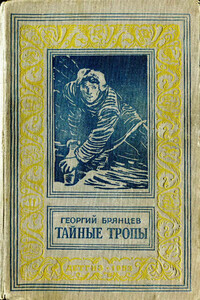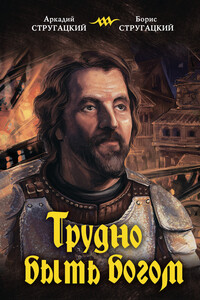— Тоже тяжелобольной? — спросил штурман с интересом.
— Возможно. Хотя мало похоже. Так. Удрать ему не удается, потому что его поймала одна голоногая тетя. Я уже знаком с этой тетей, она работает здесь. Очень милая особа. Ей лет двадцать. Давеча она спрашивала меня, не был ли я случайно знаком с Норбертом Винером и с Антоном Макаренко. Сейчас она влечет тяжелобольного ребенка и, по-моему, воспитывает его на ходу. А вот снижается еще один птерокар… Хотя нет, это не птерокар… А ты, Сережа, попросил бы у врача стереовизор.
— Я просил что-нибудь, — сказал штурман мрачно. — Он не разрешает.
— Почему?
— Откуда я знаю.
Женя вернулся к постели.
— Все это суета сует, — сказал он. — Все это ты увидишь, узнаешь и перестанешь замечать. Не нужно быть таким впечатлительным. Помнишь Кёнига?
— Ну?
— Помнишь, как я рассказывал ему про твою сломанную ногу, а он громко кричал с великолепным акцентом: «Ах, какой я впечатлительный! Ах!»
Кондратьев улыбнулся.
— А наутро я пришел к тебе, — продолжал Женя, — и спросил, как дела, а ты злобно ответил, что провел «разнообразную ночь».
— Помню, — сказал Кондратьев. — И вот здесь я провел много разнообразных ночей. И сколько их еще впереди!
— Ах, какой я впечатлительный! — закричал Женя.
Кондратьев опять закрыл глаза и некоторое время лежал молча.
— Слушай, Евгений, — сказал он, не открывая глаз, — а что тебе сказали по поводу твоего искусства водить звездолет?
Женя весело засмеялся:
— Была великая, очень вежливая ругань. Оказалось, я разбил какой-то телескоп на внеземной обсерватории. Честное слово, не заметил — когда. Начальник обсерватории чуть не удавил меня. Но воспитание не позволило.
Кондратьев открыл глаза.
— Ну? — сказал он.
— Но потом, когда они узнали, что я не пилот, все обошлось. Меня даже хвалили. Начальник обсерватории сгоряча предложил мне принять участие в восстановлении телескопа.
— Ну? — сказал Кондратьев.
Женя вздохнул:
— Ничего не получилось. Врачи запретили.
Приоткрылась дверь, в комнату заглянула смуглая девушка в белом халатике, туго перетянутом в талии. Девушка строго поглядела на больного, затем на гостя и сказала:
— Пора, товарищ Славин.
— Сейчас ухожу, — сказал Женя.
Девушка кивнула и затворила дверь. Кондратьев грустно сказал:
— Ну вот, ты и уходишь…
— Так я же ненадолго! — вскричал Женя. — И не кисни, прошу тебя… Ты еще полетаешь, ты еще будешь классным Д-звездолетчиком!
— Д-звездолетчик… — Штурман криво усмехнулся. — Ладно, Евгений, ступай. Сейчас звездолетчика будут кормить кашкой. С ложечки.
Женя поднялся.
— До свиданья, Сережа, — сказал он, осторожно похлопав руку Кондратьева, лежавшую поверх простыни. — Выздоравливай. И помни, что новый мир — очень хороший мир.
— До свиданья, классик, — проговорил Кондратьев. — Приходи скорее. И приведи свою умницу. Как ее зовут?
— Шейла, — сказал Женя. — Шейла Кадар.
Он вышел. Он вышел в незнакомую и в общем-то чужую жизнь, под бескрайнее небо, в зелень бескрайних садов. В мир, где, наверное, стрелами уходят за горизонт стеклянные автострады, где стройные здания бросают на площади ажурные тени, где мчатся машины без людей и с людьми, одетыми в диковинные одежды, спокойными, умными, доброжелательными, всегда очень занятыми и очень этим довольными. Вышел и пойдет дальше бродить по планете, похожей и не похожей на Землю, которую мы с ним покинули так давно и так недавно. Он будет бродить со своей Шейлой Кадар и скоро напишет свою книгу, и книга эта будет, конечно, очень хорошей, потому что Женя может написать только очень хорошую, умную книгу…
Кондратьев открыл глаза. Рядом с постелью сидел толстый, румяный врач Протос и молча смотрел на него. Врач Протос улыбнулся, покивал и сказал вполголоса:
— Все будет хорошо, Сергей.