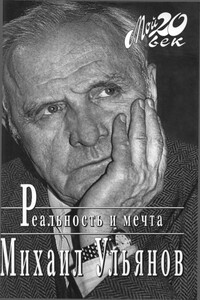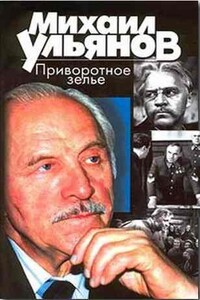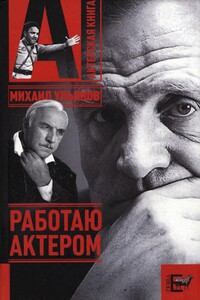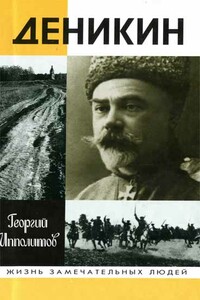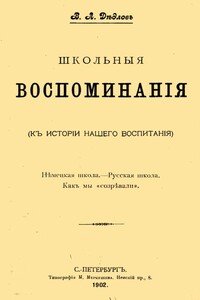Я написал, что театр — это сегодня спасательный круг общества, и вспомнил нашу вахтанговскую «Принцессу Турандот». Спектакль, с которого «есмь пошла Русская земля», применительно к нашему театру имени Евгения Вахтангова. «Принцесса Турандот», прародительница всех вахтанговцев, вахтанговской школы, сама родилась в тяжелые постреволюционные годы, премьера была в 1922-м, когда люди мерзли, голодали, изовшивели, устали смертельно от борьбы и войны, от непрекращающегося террора. Можно ли придумать время, менее расположенное к сказке, к смеху, к вымыслу и балагурству? И вот парадокс! Родилась именно такая сказка, вымысел, чистая детская игра, а уставшие полуголодные люди, пришедшие смотреть эту сказку, плакали от счастья, что им театр дал возможность погрузиться в нее. Будто солнце взошло среди зимней тундры. Или на снежной целине вдруг расцвел цветок!
Так что не только сегодня театр — спасательный круг общества. Так всегда. И сегодняшнее время только острее напоминает, по-видимому, непреходящую истинность той загадки — и отгадки — Турандот. Она и сегодня перед нами, артистами, режиссерами со своей вечной загадкой: чего хочет зритель сегодня? Мы должны ее разгадывать все-таки исходя из реальностей нашего времени. Пусть даже оно очень похоже на то, когда творил Евгений Вахтангов.
Правда, пока не рождается и «Принцесса Турандот». Но посмотрите: один из ведущих сегодня режиссеров, действительно крупный художник, Марк Захаров, не скрывает своего «отца» — Евгения Вахтангова. Его спектакль «Женитьба Фигаро» — это тоже своего рода фейерверк среди всеобщего уныния. За этот спектакль его упрекают, его критикуют критики, — известно же, на то они и есть критики, но нынешние — это что-то особенное: у них злоба порой такая, что кажется, он пишет свою статью в трамвае: ему на ногу наступили, а он, бедный, мучается и пишет. Раздражается и учит… Зато зрители оценивают тот же спектакль по-своему: попасть на него невозможно. Билетов не купить. Марк Захаров не скрывает своего вахтанговского начала в этом спектакле. Он нарочито, демонстративно, обнаженно развлекает. Есть у него там всего одна какая-то политическая штука: ползают какие-то санкюлоты, но это так, мимоходом, вроде бы для знака, политического ориентира автора этого спектакля. А если б режиссер ставил «серьезно» такой спектакль, весь на злобу дня, густопсово политический, — пришел бы зритель еще и в театре любоваться на свою же замороченную жизнь? Ох, вряд ли. Уже и так насмотрелись.
Так что такое — вахтанговский стиль, выручающий общество в тяжкие, трудные дни его?
Сколько я в театре ни живу, столько и слышу, как спорят: что есть вахтанговский стиль? В конце концов спорящие соглашаются: хороший спектакль — вот вахтанговский стиль! Плохой спектакль — это не вахтанговский!
Если серьезно, вахтанговское отличается, вероятно, от всех других тем, что его доминанта на сцене — праздник. Да, как в «Принцессе Турандот». Праздник, солнечность, театральность и некая, если хотите, облегченность от гражданственности, моралите. Все это вместе создает особый — пряный, пахучий театральный стиль. И в лучших спектаклях это действительно так. В лучших спектаклях — блеск исполнительского мастерства, костюмы, режиссура, — и во всем какой-то особый шик! В истинно вахтанговском спектакле всегда есть этот шик. Другого слова, может, и не надо. Как говаривал Рубен Николаевич Симонов: «Надо играть храбро», — эдак сдобно похрустывая своим «р». Вот это самое «храбро», этот актерский блеск и шик.
Но когда это «храбро» превращалось в нахальство или же скрывало пустоту, тогда все пропадало.
То есть требовалось сочетание праздника и глубинности, театральности имею в виду некую условность формы — и правдивости, солнечности атмосферы с безусловным жизнеподобием чувств, — все это вместе и создавало то, что можно назвать вахтанговским стилем.
Евгений Багратионович Вахтангов, работая над «Принцессой Турандот», требовал от своих учеников — студентов, будущих актеров начинающегося тогда будущего театра имени Вахтангова, безусловной правды чувств: пусть борода из мочала, из тряпки, но чувства должны быть истинными! Это совсем другой реализм, чем когда борода из настоящих волос, полное внешнее правдоподобие и — полное вранье в передаче правды внутреннего мира. Зритель у Вахтангова никогда не теряет ощущения, что он в театре. Он может потрястись переживанием или восхититься профессионализмом исполнителей, блеском, шиком, солнечностью и все равно не забыть: это театр. Вахтанговцы как бы говорят: да, ты в театре — как дети говорят друг другу: «Понарошку мы с тобой скачем на лошадях» и садятся верхом на палочки. Да, ты в театре, а мы тебе расскажем, рассказываем веселую и добрую, блестящую сказку.