Я лежал на длинной плохонькой железной кровати, прикрытый грубым серым одеялом. Над подушкой к кровати была приделана металлическая дощечка, и на ней было обозначено мое звание, мой возраст и поставлено латинскими буквами «Fractura femoris» («перелом бедра»). Другое шло не в счет.
Началась бесконечная пытка дней.
Мелитте и матери моей, которая приезжала ненадолго навестить меня, врачи сказали, что все пустяки, что я поправлюсь, нога срастется через шесть недель, рука, пожалуй, еще скорее, но владеть я ей не буду — сломан самый локтевой сустав. Глаз зашили, и он быстро принял прежний вид. Разрыв на лбу стянули, уменьшили его какими-то ухищрениями. От него потом остался лишь небольшой шрам. Но в главном врачи ошиблись. Потому ли, что я был беспокоен и все время вертелся на своей койке, или, вернее, потому, что я был истощен до последней степени, но только нога моя не хотела срастаться. Рука срослась, и даже недобрые чаяния врачей были обмануты, я ей владею. Нога же не срасталась и не срасталась. Это было похоже на злое волшебство. Шестидесятилетний старик, сломавший свою ногу, давно уже поправился, он ходил на костылях и должен был через несколько дней выписаться из больницы. А мне было всего лишь двадцать два года, и, однако же, во мне не было самоисцеляющейся жизни. Врачи приходили, качали головой и уходили. Я был присужден неведомым мне приговором к пытке ночей и дней, к пытке недель и месяцев.
В больнице было плохо. Сиделки были грубы. Больные были надоедливы и грубы. Но не это, конечно, было больно, хотя и от этого становилось душно. Каждый день видеть бледное родное лицо с застывшим безмолвным упреком. Каждый день ощущать невозможность встать и быть отрезанным от мира живых, которые так свободно ходят и делают все, что захотят. Каждый день бессильно отсчитывать минуты и часы, от одного часа до другого, без мысли в голове, без какого-либо чувства, кроме чувства бесконечной отчужденности от всех. И от той, кто был дорог. Она тоже была мне чужая. Из мира живых она была, а я был из мира выброшенных за пределы живого. Я тайно завидовал каждому, кто проходил по комнате на двух своих здоровых ногах. Но в то же время все, что было связано с живою жизнью, меня пугало и отталкивало. Когда предо мною начинали говорить, что вот я встану и мы уедем на лето к родным, я проникался тайным ужасом. Как будто перед мертвецом говорили, что вот мертвый сейчас встанет, принарядится и пойдет на пир. Было что-то уродливое в этом и неестественное. До отвратительности.
Мелитта похудела, побледнела, сделалась еще воздушнее. Но когда она, наклоняясь, целовала мое лицо, мной овладевал страх и суеверное чувство. Когда кто-нибудь из знакомых заходил навестить меня и говорил со мной о том и об этом, я принимал участие в разговоре, я отвечал на вопросы, но при этом испытывал бесконечное мучение: я чувствовал, что ничего этого не будет, о чем говорят, что я лгу, что все лгут и невозможно продолжать эту ложь.
Каждый день, уходя, уводил меня все дальше и дальше от всех живых. Незримо, но я удалялся от Мелитты и от тех, кто меня навещал, словно по воздушным пустыням ходил. Тосковал от бесконечности пути. Мерил, взвешивал судьбы людей. Все это без слов. В образах и в ощущениях, для которых каждое слово было бы слишком четким и грубым, а потому неверным.
В одном хождении Богородицы по мукам Пресвятая Дева говорит: «Не позволишь ли ты мне, Господи, по адам походити, по раям посмотрети?» И ответ гласит: «Все это будет по твоему желанию». Со мною было совсем иначе, но что-то из этого. Я хотел, как рая, мертвой тишины, она отошла от меня в недоступность, а я стал ходить по адам. Эти адские области были и близко, и далеко, и вне, и внутри. Все лица, мелькавшие около меня в течение дня, отвращали меня своею чуждостью. Все люди казались мне навязанными мне адскими выходцами, ибо я никогда не хотел их видеть, таких видеть. А когда спускалась ночь, мысль моя блуждала по бесконечности, а все тело горело и мучилось. Первые недели я стонал по ночам, сжимал губы и кусал их, но против моей воли они издавали жалкие звуки. И острящий лакей в противоположном краю камеры говорил вслух: «Ишь соловей-то наш, защелкал». А сочувственная публика, состоящая из больных и сиделок, разражалась дружным смехом.




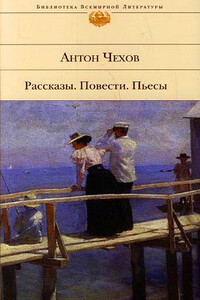
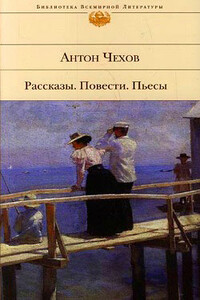
![Том четвертый. [Произведения]](/uploads/books/images/47/475b944e6bb0a2c60ab601d438721f3ec417d8eb.jpg)