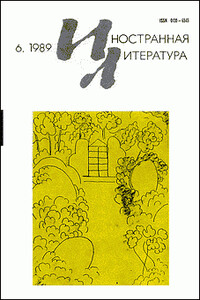В непривычный час внесли алюминиевый бачок и солдатские котелки. Бледный верзила в тиковой робе начал раскладывать по котелкам жаренные на сале макароны, уже остывшие. Он шмякал каждую порцию с каким-то ожесточением, спеша, лоб у него блестел от пота. Набив очередной котелок, он не протягивал его нам, а шумно ставил на стол, и я заметил, что он почувствовал облегчение, когда уходил. Пока мы ели, сменились часовые, было слышно, как они за дверью отбубнили уставные формулы. Штурман почти ничего не ел, усталым движением он предложил нам свою порцию. Казалось, его интересовало только время дня: он несколько раз поднимался и смотрел в окно на небо.
В сумерках общий разговор оживился. Каждый полагал, будто что-то знает, что-то предчувствует, высказывались предположения, догадки, говорили все вперемежку.
— А оккупации не видать и не слыхать, — раздалось в одном углу.
— Капитулировали — значит, капитулировали, тут все приказы отменяются, — сказали в другом углу.
Голоса невозмутимо чередовались:
— Узнать бы, что с нами собираются делать...
— Не могут же весь экипаж...
— Хоть растолковали бы, что и как...
— Старик, наверно, диктует протокол...
— Бунт нам нельзя приписать...
— Может, командование уже разбежалось...
— Я на боковую, толкните, если что важное...
Разговор затих; мы потягивались, зевали, прислушивались к шуму за окнами: там останавливались автомашины, раздавались торопливые шаги и скороговорка приветствий у подъезда.
Еще не стемнело, когда все обратили внимание на штурмана; он направился к полке и стал быстро перелистывать папки и формуляры, пока не нашел почти чистый лист бумаги. Вырвав его, он подошел к подоконнику и стоя начал писать, писал не отрываясь, словно все обдумал заранее. Мы не знали, что он пишет, но у всех было такое чувство, что это касается каждого из нас, и, может, именно поэтому никто не посмел нарушить тишину. Возле полотенец лежали большие надписанные конверты; штурман вытряхнул содержимое из одного, зачеркнул надпись и печатными буквами начертал на нем звание и фамилию нашего командира. Потом согнул вдвое конверт, подошел ко мне и устало присел рядом.
— Вот, — сказал он, — отдайте это командиру, когда-нибудь.
Кто-то крикнул: «Встать! Смирно!» Мы вскочили и стали навытяжку перед еще молодым седоволосым офицером, который вошел без стука. Он сделал нам знак «вольно». Некоторое время постоял в раздумье, потом не спеша двинулся от одного к другому, каждому кивал головой и предлагал сигарету из жестяной коробки, причем я заметил, что на правой руке у него не хватает трех пальцев. Он уселся на подоконник и сказал, глядя в пол:
— Я ваш защитник, моряки, дело обстоит неважно — И добавил монотонным голосом: — Выдвинуто обвинение: угроза вышестоящему начальнику, невыполнение приказа, бунт.
Ну и тишина, внезапная полная тишина! Ни один из нас даже сигарету не поднес ко рту.
Первым опомнился пиротехник.
— Но мы же капитулировали? — спросил он.
— Да, — ответил офицер, — подписана частичная капитуляция.
— Значит, нас не имеют права обвинять, — сказал пиротехник, — во всяком случае не немецкий военный трибунал.
— Для служащих военно-морского флота Германии, — пояснил офицер, — остается в силе подсудность немецкому военному трибуналу, таковая не отменена.
— Но ведь мы... — сказал пиротехник, — мы сейчас под охраной британской администрации?
— Да, — ответил офицер, — но это ничего не меняет в судебной власти государства.
Он пригласил всех подойти к нему поближе и, сидя на подоконнике, расспросил нас о том, что же произошло на борту MX-12.
Разболевшийся у меня тройничный нерв немного утих, правда, еще жгло, дергало, слезился глаз. Пока мы шли по мрачному охраняемому коридору, я слегка прижимал носовой платок к глазу и виску; неожиданно дорогу мне преградил часовой и потребовал, чтобы я развернул сложенный платок и встряхнул его. После этого он дал мне чувствительного пинка, и я примкнул к товарищам, которые цепочкой молча шагали под развешанными на стенах рисунками старых кораблей. Помещение, куда нас ввели, похожее на столовую или на конференц-зал, было плохо освещено; у стен стояли часовые в касках и с автоматами; по обе стороны огромного массивного стола, с которого свисал имперский флаг, были поставлены скамьи и табуретки, пожалуй, многовато скамей и табуреток. Нас было восемь. Мы промаршировали по дощатому полу под командой кривоногого боцмана и по его знаку остановились перед скамейками; садиться было еще нельзя. Затем появились наш командир с вахтенным офицером, их сопровождал какой-то офицер; они вошли через ту же дверь, что и мы, направились к табуреткам напротив нас и остановились там в ожидании. Командир не бросил в нашу сторону ни единого взгляда — ни вопросительного, ни ответного, — хотя все мы не спускали глаз с его лица; он просто смотрел мимо нас, терпеливо, как бы отсутствующе. Даже вахтенного офицера, стоявшего рядом с ним, он, казалось, не замечал.