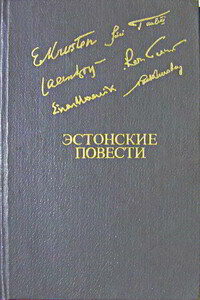— Он не из фольги? — спросил я после того, как мы поздоровались.
— Из фольги? Нет, конечно, — сказала она. — У вас что-нибудь случилось?
— Когда? — не понял я.
— Ну сегодня. У вас все в порядке?
Мокрые волосы ее спускались витыми косичками к заушью, отчего лицо казалось продолговатым и совсем детски-девчоночьим. Я подумал, что речь идет о моем несуразном костюме: в тот день я нарочно — наполовину в пику, а наполовину в утешение себе — надел старую вылинявшую тельняшку, заскорузлую морскую брезентовую куртку, такие же брюки и кирзовые сапоги. Ими, понятно, не шаркнешь, да мне и не хотелось этого. Не трогаясь с места, я с непонятным для себя злорадным удовольствием объяснил, что значит эта моя одежа. У Лозинской было какое-то полуироническое выражение лица.
— И кому же вы мстите? Всем нам, маленьким? Или только себе, большому?
Это было неожиданно и обидно, и я ничего не ответил, а она вдруг предположила, как гадалка:
— У вас, очевидно, нет друзей. Я права? Я сказал, что права. Друг, сказал я, это тот, с кем тебе свободно и безопасно.
— Что имеется в виду?
— Бескорыстие в отношениях, — сказал я.
— Да, но вот эта ваша… неестественность, что ль, непростота, куражность… Я, например, никак не пойму, что заставило вас, извините, нести мне какую-то чепуху о фальшивых рублях, помните? Зачем это вы? От недоверия к людям? Или от обиды на них?
— Вы считаете, что поступили «доверчиво», кинув мне тогда рубль? — спросил я.
— Нет, это было плохо. Но я ведь не знала…
— Я тоже, — сказал я.
— Значит, это у вас своеобразное защитное свойство?
— Возможно. Я ведь безработный неудачник, — сказал я неизвестно зачем и с таким затаенно-взыскующим и горьким чувством, будто во всем этом была виновата она, Ирена Михайловна Лозинская, — и больше никто. Она с каким-то веселым блеском в глазах выслушала, как я искал службу, и мне было непонятно, что ее забавляло.
— И ни разу не присели, когда вам предлагали?
У нее косили глаза и трепетали крылья ноздрей.
— А вы бы присели? — спросил я.
— Не знаю. Наверно, тоже нет… Ну, и вы решили, что ни в одном ларьке вам уже не продадут коробку спичек? У вас большая семья?
— Я один, — сказал я.
— Совсем?
— Отца с матерью у меня…
— Не надо, — перебила она, — я уже знаю.
— О чем? — спросил я.
— О детприемнике. А живете вы как? То есть я хотела сказать: где?
Я объяснил и заодно рассказал, как впервые повстречал Владыкина, когда клеил лодку.
— Ну вот и хорошо! И отлично, — сказала она с внезапной гневной неприязнью неизвестно к кому. — Вы в самом деле были на Кубе?
— Не только там, — сказал я.
— Ну вот видите! И хорошо! И отлично! Чего же вы… потерялись? Возлагали розовые надежды на повесть, да?
Я промолчал и закурил.
— Понятно, — сказала она себе. — А почему мы стоим здесь?
Дождь лил, и не было надежды, что он когда-нибудь прекратится. Тротуары были пустынны. Мне не хотелось сразу, теперь же, ехать на улицу Софьи Перовской, — мне непременно нужно было еще что-нибудь рассказать о себе этой чужой маленькой женщине в большом нелепом плаще. Я тихонько двинулся вдоль набережной и когда включил дворники, то заметил, что Лозинской не нужно, чтобы смотровое стекло было прозрачным.
— Вы не хотите, чтобы вас кто-нибудь увидел? — спросил тогда я совершенно зря и, конечно же, невоспитанно. Она сухо ответила, что это ни для кого не важно, и я извинился.
— Только, ради бога, не переходите на свои прежний бравадный тон, серьезно сказала она. — Он вам совсем не идет.
— Как вам этот серебряный плащ, — сказал я тоже серьезно.
— Правда, я в нем как поп? — обрадовалась она чему-то.
— Вылитый, — сказал я, а она засмеялась, но без доброты и веселости. Сквозь смутное потечное стекло мне было плохо видно, поэтому я ехал медленно, прижимаясь к тротуару и никуда не сворачивая, — набережная в конце концов выводила за город, где я мог, наверно, включить дворники.
— Кто были… ваши родители? — за два приема и почему-то полушепотом спросила вдруг Лозинская, не глядя на меня.
— Мать врач, а отец военный, — ответил я. «Росинант» тогда подпрыгнул: я нечаянно выжал до конца педаль газа, и Лозинская, охнув, откинулась на спинку сиденья.