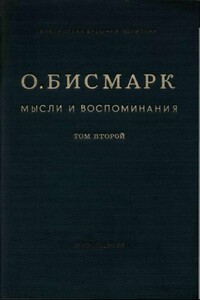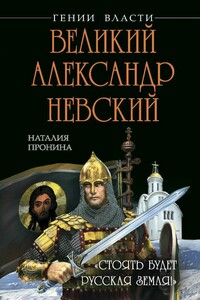11 мая 1851 г. я прибыл во Франкфурт. Господин фон Рохов, человек не столько честолюбивый, сколько склонный к покою и уюту, утомленный климатом и шумной придворной жизнью в Петербурге, предпочел бы надолго остаться во Франкфурте. Это вполне удовлетворяло всем его желаниям, и он хлопотал в Берлине о назначении меня посланником в Дармштадт, с тем чтобы я одновременно был аккредитован при герцоге Нассауском и городе Франкфурте; он был даже, пожалуй, не прочь уступить мне взамен свой петербургский пост. Ему нравилось жить на Рейне и общаться с немецкими дворами. Но его старания не увенчались успехом. 11 июня господин фон Мантейфель известил меня о том, что король утвердил мое назначение посланником при Союзном сейме. «Само собой разумеется, – писал министр, – что господина фон Рохова нельзя уволить brusquement [внезапно]; поэтому я предполагаю сегодня же написать ему об этом несколько слов и уверен, что вы согласитесь со мною, если я поступлю в этом случае, сообразуясь с желаниями господина фон Рохова; я в сущности весьма благодарен ему за то, что он взял на себя тяжелую и неблагодарную миссию, не в пример некоторым другим, которые всегда готовы критиковать, а как только доходит до дела, – бьют отбой. Незачем доказывать, что я имею в виду не вас, так как и вы защищаете брешь и не отступите, полагаю, даже в том случае, если останетесь один».
15 июля последовало мое назначение посланником при Союзном сейме. Хотя с Роховым обошлись очень предупредительно, он был тем не менее расстроен и выместил на мне досаду за несбывшиеся желания: однажды утром он выехал из Франкфурта, не предупредив меня и не сдав мне ни дел, ни документов. Узнав стороной об его отъезде, я успел как раз вовремя явиться на вокзал, чтобы выразить ему благодарность за проявленное им доброжелательное отношение ко мне. О моей деятельности и о моих наблюдениях в Союзном сейме опубликовано так много официального и частного материала, что мне остается дать лишь кое‑какие дополнения.
Я застал во Франкфурте двух прусских комиссаров, оставшихся со времен интерима: обер‑президента фон Беттихера, сын которого в качестве статс‑секретаря и министра стал впоследствии моим помощником, и генерала фон Пейкера, доставившего мне повод впервые призадуматься над тем, что представляют собою ордена. Это был дельный и храбрый офицер с серьезным научным образованием, которое он имел случай применить впоследствии на посту генерал‑инспектора военно‑учебных заведений. В 1812 г., когда он служил в корпусе Иорка, у него украли плащ; обратный поход ему пришлось совершить в одном мундире; он отморозил себе пальцы на ногах и претерпел еще всякие другие беды в связи с холодами. Этот умный и храбрый офицер добился, несмотря на свою внешнюю непривлекательность, руки красавицы графини Шуленбург; от нее впоследствии перешло к его сыну богатое наследство семьи Шенк фон Флехтинген в Альтмарке. В удивительном контрасте с его общим духовным обликом находилась свойственная ему слабость – излишнее пристрастие к внешним знакам отличия, обогатившее берлинский жаргон особым словечком: о человеке, чрезмерно увешанном орденами, принято было говорить: «еr peuckert» [ «он пейкирует»].
Придя к нему однажды утром, я застал его перед столом, на котором были разложены честно заслуженные им, первоначально на поле битвы, ордена, стройный порядок коих на груди был нарушен только что полученной новой звездой. Поздоровавшись со мной, он заговорил не об Австрии или Пруссии, а о том, куда, с точки зрения художественного вкуса, приладить эту новую звезду. Чувство глубокого уважения, с каким я с детства привык относиться к заслуженному генералу, заставило меня совершенно серьезно заняться этим вопросом, и, только исчерпав его, мы перешли к деловому разговору.
Признаюсь, что, получив (в 1842 г.) свой первый знак отличия, медаль за спасение, я был весьма обрадован и даже польщен, ибо в то время я, простой провинциальный юнкер, не был еще избалован в этом отношении. На государственной службе я быстро утратил эту свежесть восприятия; не припомню, чтобы в дальнейшем получение наград доставляло мне объективное удовольствие; я испытывал только субъективное чувство удовлетворения этими внешними знаками благоволения, коими король отмечал мою преданность, а прочие монархи – успешность моих попыток заслужить их доверие и благосклонность. Наш посланник в Дрездене, фон Иордан ответил как‑то на сделанное в шутку предложение – уступить один из его многочисленных орденов: «Je vous les cede toutes, pourvu que vous m’en laissiez une pour couvrir mes nudites diplomatiques» [ «Уступаю вам их все – оставьте мне только один для прикрытия моей дипломатической наготы»]. Grand cordon [орденская лента] составляет в сущности неотъемлемую принадлежность туалета посланника, а возможность переменить ленту, если только она пожалована не собственным двором, а иностранным, является для элегантного дипломата столь же желанной, как для дамы – перемена наряда. В Париже мне приходилось быть свидетелем того, как один вид monsieur decore [господина с орденом] сдерживал бессмысленные насилия над толпой. Я нигде не испытывал потребности носить ордена, кроме как в Петербурге и в Париже; в этих столицах просто необходимо показываться на улице не иначе, как с ленточкой в петлице, если хочешь, чтобы полиция и публика обращались с тобой вежливо. В прочих случаях я надевал обыкновенно лишь те ордена, которые требовались обстоятельствами; мне всегда представлялось своего рода китайщиной, когда приходилось наблюдать, какие болезненные формы принимала у моих коллег и сотрудников на бюрократическом поприще страсть к коллекционированию орденов; как тайные советники, которые и так уже были не в состоянии совладать с бившим из их груди каскадом орденов, добивались заключения какого‑нибудь ничтожного договора лишь потому, что им хотелось пополнить свою коллекцию орденом того государства, с которым велись переговоры.