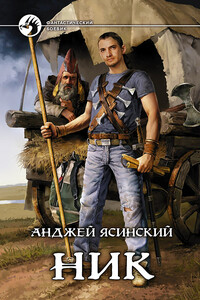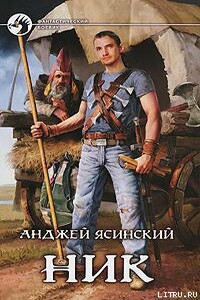- Мютцен аб!
Власовцы не поняли его, а может быть, не хотели выполнять команду, продолжали молча стоять. Тогда он с одного из них сдернул пилотку, бросил под ноги и с размаху кулаком влепил по физиономии. Все сразу поняли и сняли со своих голов пилотки. Почему он так сделал, я не понял. Раньше такого от немцев я не встречал. Наверное, ему не понравились небритые лица неопрятных российских пьяниц. После случившегося я почувствовал себя еще более неуютно. Подумалось, что начали бить даже не узнав кто мы такие и чего натворили. Утешала мысль, что небритые рожи власовцев и их вульгарно босяцкий вид не понравился эсэсовцу немцу. Про себя подумал, таким человеко-скотам я тоже бы дал по их неприятным мордам. Потом засомневался. Ведь сам-то я тоже русский. Хоть я и не пьяница, но моя физиономия тоже может вызвать у кого-нибудь антипатию и следующий буду я, кому влепят по физиономии. Проходящие мимо меня тоже причисляют к их компании. А может быть это и лучше, если меня посчитают за одного из этой компании пьяниц. Глядя со стороны, оно так и было. После инцидента с аккуратным эсэсовцем, к нам подошел солдат с винтовкой и всем велел выйти на улицу. Нас взяли под конвой и повели куда-то, бог знает куда и зачем. Когда мы отошли метров на сто, неожиданно откуда-то появился немец который привел меня в комендатуру. Увидев меня, он по-немецки спросил:
- Что случилось?
Я пожал плечами и сказал:
- Не знаю.
Тот, поговорив с конвоиром, велел мне идти вместе с ним. По дороге про власовцев он сказал:
- Все они пьяницы и дрянные люди.
Я тоже сказал:
- Да, пьяницы.
Но сам в это время раздумывал, кому из нас повезет больше, мне или этим пьяницам? Ну что из того, если они сколько-то дней отсидят под арестом. Зато потом, когда их выпустят, они снова напьются до полусмерти, обмывая свое освобождение. Веселая у них жизнь, беззаботная. Свою же судьбу я представлял в другом виде. Вначале переломают руки и ноги. Потом сломают ребра и под конец, чтобы было другим неповадно, открутят голову. Так уж у них заведено, у немцев.
В комендатуре мой сопровождающий ввел меня в кабинет к какому-то офицеру. Он что-то сказал сидящему за столом и тот вежливо попроси меня сесть напротив себя. Я сел. Офицер сидел и задавал по-немецки вопросы. Как моя фамилия, где живу, чем занимаюсь? Вопросы я понимал хорошо и отвечал на них тоже нормально. Потом он из папки вынул какой-то документ и внимательно стал читать. Донос, подумал я, или уже готовое, заведенное на меня дело. Однако вместо крика и угроз, как положено разговаривать с преступниками, офицер вежливо спросил, где я воевал и куда был ранен. И лишь после этих вопросов и его улыбающегося лица я понял, что вызвали меня не по причине бывшей мелкой диверсии возле нашего дома и что сейчас мне ничто не угрожает.
Мое угрюмое настроение мгновенно сменилось на бодрое. Мой внутренний настрой с похоронного марша сменился на бодрый пляс. Тут же из моих уст полилась бодрая мелодия торжествующей жизни. Разговаривать по-немецки на темы войны, ранений и госпитальной жизни я так хорошо научился в немецких госпиталях, что даже обрадовался таким вопросам. Я в самом деле тогда хорошо разговаривал на эту тему по-немецки и сразу, почти без всякой паузы, сам взял инициативу разговора в свои руки. Мне не хотелось, чтобы он задавал мне вопросы. Это могло быть не в мою пользу. Потому почти на хорошем немецком языке я так красиво разукрасил то, что могло со мной быть, а больше того, чего и в помине-то со мной не было, но походило на правду. Немец стал улыбаться и слушал, не перебивая. В конце разговора спросил, кто я по национальности и где научился говорить по-немецки. Я сказал, что у меня соседи были немцы. Учился немецкому в школе и еще много был среди немцев. Может быть, многое и приврал, но и правда была тоже. В конце беседы он показал документ и сказал, что из Риги на мое имя пришел запрос, в котором спрашивают, как я устроен, получил ли я земельный надел. Там была просьба к местным властям проявлять ко мне участие. Немец сказал, что во всех случаях, если будет нужда какая, я смогу найти у них поддержку. Сказав 'данке зер', я вышел.